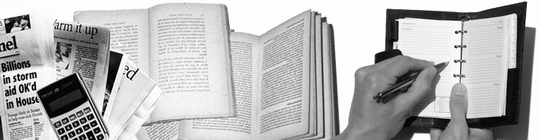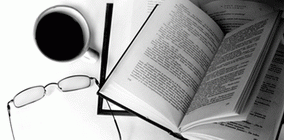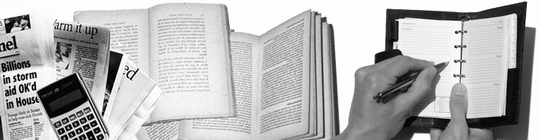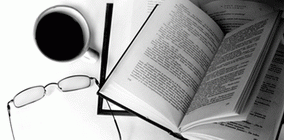ЧАСТЬ V. БОРЬБА ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВОЧАСТЬ V. БОРЬБА ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
ГЛАВА 28. ГОДЫ ПЕРЕМЕН: СТРАНЫ ПРОТИВ МОНОПОЛИЙ
Две с лишним тысячи лет пролежал в развалинах Персеполь, столица древней персидской империи, разграбленный и разрушенный в 330 г. до н. э. Александром Македонским. В октябре 1971 года в Персеполе снова закипела жизнь. В этом уединенном месте выросли шатры: три гигантских и пятьдесят девять – поменьше. Шах Ирана приготовился торжественно отметить 2500‑летие основания персидской империи. Журнал „Тайм“ назвал это празднество „одним из самых грандиозных пиршеств в истории“. Среди почетных гостей были Генеральный секретарь ЦК КПСС, вице‑президент Соединенных Штатов, маршал Тито из Югославии, двадцать королей и шейхов, пять королев, двадцать один принц с принцессой, еще четырнадцать президентов и три вице‑президента, три премьер‑министра и два министра иностранных дел. Во время церемонии шах публично общался с тенью основателя империи царя Кира Великого, обещал быть верным традициям и деяниям этого монарха, который погиб около двадцати пяти столетий назад. Затем сверкавших драгоценностями и медалями гостей доставили автобусами на вершину холма, откуда открывался вид на лежащий в долине Персеполь, и показали необыкновенный спектакль – действо под звездным небом на тему, как ни странно, разрушения города Александром Македонским.
Готовясь к празднествам в Персеполе, иранское правительство в спешном порядке тайно обратилось к Англии за советом по самому животрепещущему вопросу высшей дипломатии: каким образом рассадить такое огромное число важных персон. Вероятность нанести могущественным особам обиду была велика. Протокольный отдел лондонского министерства иностранных дел с честью вышел из труднейшего положения, предложив изготовить стол волнообразной формы. Таким образом, ни один из гостей не находился бы слишком далеко от кого‑нибудь из Пехлеви.
Желая продемонстрировать свое величие, шах пригласил на торжество королеву Великобритании Елизавету II. Поэтому на долю посла Ее Величества в Тегеране выпала пренеприятнейшая задача: сообщить, что королева должна в это время отправиться с государственным визитом в другую страну. Этой „другой страной“, однако, оказалась соседняя Турция, что никак не могло не огорчить шаха. Он пригласил принца Чарльза. Последовал ответ: „Очень сожалеем, но Чарльз отсутствует – несет службу на одном из фрегатов в Северном море“. Не важно, что празднество в Персеполе – это не какое‑то заурядное сборище, а событие, отмечаемое раз в две тысячи пятьсот лет, не важно, что шах, помимо всего прочего, вел переговоры о покупке нескольких сотен английских танков „Чифтен“, что было крайне важно для платежного баланса Великобритании. Лондон предложил прислать принца Филиппа и принцессу Анну. Шах согласился, но сказать, что это его полностью удовлетворило, было нельзя.
Обслуживать гостей было поручено парижскому ресторану „Максим“. Блюда, приготовленные 165‑ю шеф‑поварами и кондитерами и доставленные вместе с официантами самолетами из Парижа, были чудом кулинарного искусства. Помимо этого, самолетами из Франции доставили двадцать пять тысяч бутылок вин. (На таком сильном „французском фоне“ особенно заметно было отсутствие президента Франции Жоржа Помпиду. „Если я поеду на это пышное торжество, – накануне пошутил президент в узком кругу, – меня, по всей вероятности, сделают главным официантом“.) Расходы на проведение торжеств должны были составить по предварительным подсчетам где‑то от 100 до 200 миллионов долларов. Когда кто‑то выразил сомнение по поводу такой экстравагантности, шах не мог сдержать своего раздражения. „Так что же им не нравится? – возмутился он. – Что мы устраиваем один‑два банкета для пятидесяти глав государств? Не можем же мы предложить им хлеб и редиску?! Хвала небесам, имперский двор Ирана пока еще может позволить себе оплатить услуги „Максима“.
После торжеств в Персеполе англичане, желая успокоить шаха и сгладить напряженность между двумя странами, пригласили его провести с королевским семейством в Виндзорском замке уикэнд и понаблюдать за скачками на ипподроме „Аскот“. Визит оказался исключительно успешным. Единственная заминка возникла, когда шах собирался отправиться на верховую прогулку с королевой. За несколько часов до этого англичане с ужасом узнали, что шах, как любой мужчина‑иранец, не может ехать на кобыле или мерине, ему следовало подать жеребца. Но жеребца в конюшне не было. Когда британская сторона была уже в полном отчаянии, королева вспомнила, что жеребец есть в конюшне принцессы Анны. Но тут англичан охватила новая волна паники: кличка лошади была „Казак“. А шах ведь был сыном офицера казачьей бригады, который захватил власть в двадцатые годы. Учитывая болезненное отношение шаха к своему отцу и роль Великобритании в его свержении, а также общее недоверие шаха к англичанам, он мог воспринять это как новое откровенное оскорбление и, по сути дела, желание его унизить. Но кличку лошади удалось скрыть, и шах все‑таки сел на „Казака“. Прогулка на лошадях и весь уикэнд прошли гладко. Королева и принц Филипп вместе с шахом и его супругой проехали вокруг ипподрома в Аскоте в открытой коляске. С тех пор шах, обращаясь к королеве, писал „Моя дорогая суверенная кузина“. Таким образом, Великобритания снова вошла в милость.
Устраивая грандиозные торжества в Персеполе, шах ставил целью укрепить свое положение как посланного свыше наследника Кира Великого. Визит к королеве упрочил его статус, как во всем ей равного. Он уже не был марионеткой, пешкой, просто каким‑то очередным узурпатором трона. Теперь это был человек, обладавший огромным богатством, властью – и гордостью – принимавший на себя выполнение новой ключевой роли на Ближнем Востоке и на международной арене.
АНГЛО‑АМЕРИКАНСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Послевоенный нефтяной порядок на Ближнем Востоке складывался и поддерживался под знаком американо‑британского господства. Во второй половине шестидесятых годов политическая власть обоих государств стала ослабевать. Это приводило к тому, что и политическая основа нефтяного порядка размывалась. Соединенные Штаты на несколько лет увязли в дорогостоящей, непопулярной и в конечном счете неудачной войне во Вьетнаме. Одновременно получили резкое распространение антиамериканские настроения: почти по всему миру проходили организованные выступления против империализма, неоколониализма и экономической эксплуатации. В самих Соединенных Штатах война во Вьетнаме привела к глубокому расколу в обществе. Этому способствовали и споры относительно „уроков Вьетнама“, что было связано с дискуссией о глобальной роли Америки. Однако для некоторых развивающихся стран уроки Вьетнама состояли в совершенно другом: цена, которую приходилось платить за выступления против Соединенных Штатов оказывалась меньше, чем прежде, теперь и это было не так опасно. И уж, безусловно, ситуация даже близко не напоминала времена Мосад‑дыка, зато выигрыш от антиамериканских выступлений мог быть значительным.
Соединенные Штаты были новичками на Ближнем Востоке по сравнению с Великобританией, которая пользовалась влиянием в этом регионе с начала девятнадцатого века, когда она впервые начала войну против пиратов, грабивших суда в водах Персидского залива, и стала улаживать постоянные конфликты между шейхами, населявшими арабскую часть побережья залива. В обмен англичане получили право отвечать за поддержание мира в соответствии с соглашениями, которые затем преобразовались в гарантии защиты независимости и целостности этих княжеств, образовавших протекторат Договорный Оман. В конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий подобные договоры и соответствующие договоренности распространились на Бахрейн, Кувейт и Катар. Но в шестидесятые годы Великобритания занялась решением собственных сложных экономических проблем, которые при сложившемся положении как внутри страны, так и на мировой арене привели к трагедии – распаду ее огромной империи. Великобритания ушла из портового города Аден на южной оконечности Аравийского полуострова. Целиком созданный ею Аден занимал стратегическое положение на пересечении нефтяных путей из Персидского залива и был одним из самых оживленных транзитных портов в мире. Теперь там воцарилась анархия. При отъезде английского губернатора военный оркестр победно играл марш „Теперь все будет не так, как прежде“. И, действительно, в протекторате Аден все стало по‑другому: с уходом англичан на его месте образовался жесткий марксистско‑ленинский режим государства Народной Демократической Республики Йемен. А в начале января 1968 года премьер‑министр Гарольд Вильсон объявил, что Великобритания прекращает свои военные обязательства по защите стран к Востоку от Суэца. К 1971 году она полностью откажется от своего военного присутствия в Персидском заливе, оставив, таким образом, последний важный осколок великой Пакс‑Британники девятнадцатого столетия и британского владычества.
Решение правительства Вильсона застало шейхов и других правителей стран Персидского залива врасплох. Ведь всего три месяца назад они получили заверения МИД, что Великобритания не намерена покидать Персидский залив. Шей хи просили англичан остаться. „Кто просил их уходить?“ – удивлялся правитель эмирата Дубай. Эмир Бахрейна высказывался более прямо: „Великобритании нужен второй Уинстон Черчилль. Она теряет позиции именно там, где она была сильна. Вы знаете, что и мы, и все остальные в Персидском заливе были бы рады, если бы она осталась“.
Численность наземных войск Великобритании в Персидском заливе фактически составляла всего лишь около шести тысяч человек. Сюда надо еще прибавить наземные службы поддержки авиации. В нестерлинговой зоне это все обходилось в 12 миллионов фунтов в год. Казалось бы, это была довольно небольшая сумма, как бы страховой взнос, учитывая огромные инвестиции британских нефтяных компаний в регионе, дающих одновременно и корпоративный доход, который исключительно позитивно сказывался на платежном балансе Великобритании, и очень высокий доход государственной казне. Некоторые шейхи говорили, что они были бы рады выложить эти 12 миллионов фунтов ради того, чтобы британские вооруженные силы остались в регионе. Их предложение было с возмущением отвергнуто. Военный министр Денис Хили высмеял дажу саму мысль о том, что англичане станут „наемниками тех, кто хочет иметь у себя британские вооруженные силы“. Однако, как отмечали некоторые обозреватели, такие компенсационные платежи принимались для содержания английских войск в Западной Германии и в Гонконге. Но мотивировка Хили объяснялась не только экономическими трудностями, рост националистических настроений уже уверил его, что сохранять военное присутствие в Персидском заливе было бы „политически неблагоразумно“.
Все же англичане, объединив несколько небольших княжеств, помогли образовать федерацию – Объединенные Арабские Эмираты – полагая, что это обеспечит небольшим княжествам определенную долю защиты. Осуществив это, они собрали вещи и в ноябре 1971 года покинули Персидский залив. Их уход ознаменовался самыми глубокими со времени Второй мировой войны переменами в Персидском заливе и обозначил конец системы безопасности, существовавшей в этом регионе свыше одного столетия. Он оставил после себя опасный вакуум власти в регионе, который поставлял Западному миру 32 процента нефти, где в то время сосредоточивалось 58 процентов разведанных запасов нефти.
Шах Ирана, как показали устроенные им грандиозные торжества в Персеполе, горел желанием заполнить этот вакуум. „Безопасность в Персидском заливе, – говорил он, – должна быть гарантирована, и кто, как не Иран, выполнит эту миссию?!“ Американцы не были довольны уходом англичан. И если не англичане, то пусть будет шах. В конце концов, это была эра доктрины Никсона, когда делались попытки решать вопросы новых политических и экономических угроз американской власти, опираясь на сильные и дружественные местные режимы как на региональных полицейских. Казалось, никто лучше не подходил для этой роли, чем шах. Никсон сам относился с большим уважением к шаху, с которым он впервые встретился в 1953 году, через несколько месяцев после того, как шах возвратил себе трон. „Шах начинает действовать все решительнее, – сказал он тогда Эйзенхауэру. – Если он окажется у власти, будет только лучше“. В 1962 году Никсон, потерпев поражение в избирательной кампании на пост губернатора Калифорнии, отправился в кругосветное турне. Шах был одним из немногих глав государств, кто оказал ему любезный прием. И Никсон никогдане забывал того внимания и уважения, с которыми его встречали, когда он был не у дел. Теперь, в начале семидесятых годов, когда шах претендовал на роль ведущей фигуры не только в Иране, но и во всем регионе, администрация Никсона поддержала его. Хотя это часто не признавалось, другой очевидной возможности и не было. Советское оружие текло огромным потоком в соседний Ирак, у которого были свои, давно вынашиваемые амбиции установить господство над Персидским заливом и его нефтью. С этого времени в Персидском заливе устанавливается новая, совершенно иная система безопасности.
КОНЕЦ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО ИЗЛИШЕСТВА
В семидесятые годы на мировом рынке нефти произошли драматические изменения. Спрос догонял предложение, а накопленные за 20 лет излишки подошли к концу. В результате в мире быстро росла зависимость от ближневосточной и североафриканской нефти. Конец шестидесятых и начало семидесятых годов были по большей части годами высокого экономического роста в индустриальном мире, а иногда и настоящего бума. Этот рост обеспечивала нефть. Спрос на нефть вырос в Западном мире почти с 19 миллионов баррелей в день в 1960 году до более 44 миллионов баррелей в день в 1972 году. Мировое потребление нефти превысило все прогнозы по мере того, как на заводах, электростанциях, в домах и на автомобильном транспорте сжигалось все большее количество продуктов переработки нефти. В Америке потребление бензина возрастало не только из‑за удлинения пробега автомобилей, но и за счет увеличения размеров автомашин и появления в них большего числа удобств, таких как, например, кондиционер. Наличие дешевой нефти в шестидесятые и в начале семидесятых годов не давало стимула к созданию экономичного автомобиля.
Конец шестидесятых и начало семидесятых были для нефтяной промышленности США годами перехода от одного этапа к другому. В Соединенных Штатах излишки запасов нефти подошли к концу. В течение десятилетий еще на таких нефтеносных месторождениях как „Папаша Джойнер“ в восточной части Техаса и „Гарольд Икес“ добычу контролировали Техасский железнодорожный комитет, „Оклахома корпорейшнс комишн“, „Луизиана консервейшн комишн“, а в других штатах аналогичные компании. В целях сохранения нефтяных ресурсов они ограничивали добычу, поддерживая фактическую производительность скважин ниже их возможностей, и контролировали цены в условиях постоянного наличия излишков. Таким образом, в результате их нецеленаправленных действий у Соединенных Штатов и во всем Западном мире образовались резервы, стратегические запасы. Они могли бы использоваться в кризисной ситуации – либо такой продолжительной как во время Второй мировой войны, либо же в более ограниченной по времени, как в 1951, 1956 и 1967 годах.
Но растущий спрос, низкие инвестиции, обусловленные низкими ценами, и сравнительно невысокие темпы открытия новых нефтеносных месторождений, а также импортные квоты сняли необходимость ограничивать добычу. Теперь на каждый баррель добытой в Соединенных Штатах нефти находился крайне заинтересованный в ней покупатель. В 1957–1963 годах избыточная мощность в Соединенных Штатах составляла в целом около 4 миллионов баррелей в день. К 1970 году оставался лишь 1 миллион баррелей в день, но даже и этот объем, по всей вероятности, был завышен. К тому же это был год, когда американская добыча нефти достигала 11,3 миллиона баррелей в день. Эта была максимальная производственная мощность, вершина, которую ни до, ни после не удавалось достичь. Затем она начала снижаться. В марте 1971 года, впервые за четверть столетия, Техасский железнодорожный комитет разрешил добычу стопроцентного дебета скважин. „Мы воспринимаем это как событие историческое, чертовски неприятное и к тому же печальное, – заявил председатель комитета. – Нефтяные месторождения в Техасе служили подобно надежному старому солдату, который в тяжелый момент мог встать и выполнить поставленную перед ним задачу, теперь этот старый солдат уже не в силах снова подняться“. При продолжавшемся росте потребления Соединенным Штатам пришлось для удовлетворения спроса обратиться к мировому рынку нефти. Квоты, первоначально установленные Эйзенхауэром, были сокращены, и чистый импорт быстро вырос с 2,2 миллиона баррелей в день в 1967 году до 6 миллионов баррелей в день в 1973 году. Роль импорта в общем потреблении нефти за этот период поднялась с 19 до 36 процентов.
Потеря резервных производственных мощностей неминуемо должна была привести к серьезнейшим последствиям, поскольку это означало, что „фактор безопасности“, от присутствия которого зависел Западный мир, больше не существует. В ноябре 1968 года на заседании стран‑членов ОЭСР в Париже государственный департамент сообщил европейским правительствам, что американская добыча вскоре исчерпает лимит своей производительности. И в случае чрезвычайного положения Соединенные Штаты уже не смогут помогать им с поставками, на которые они рассчитывают. Для участников совещания это была полная неожиданность. Прошел всего лишь год после введения в 1967 году странами ОПЕК эмбарго на поставки нефти, и полагаться на Ближний Восток было уже явно нельзя.
Действительно, постоянно возраставшая зависимость от ближневосточной нефти создавала критическое положение. Добыча нефти шла в Индонезии и Нигерии (после прекращения в ней гражданской войны в начале 1970 года), но она была смехотворной по сравнению с ростом нефтедобычи в странах Ближнего Востока. В 1960–1970 годы потребность западного мира в нефти возросла до 21 миллиона баррелей в день, добыча на Ближнем Востоке (включая северную часть Африки) за тот же период возросла до 13 миллионов баррелей в день. Другими словами, две трети огромного роста потребления нефти удовлетворялись за счет скважин Ближнего Востока.
ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В промышленно развитых странах происходил еще один знаменательный процесс. Менялись и точка зрения человека на окружающую среду, и его отношение к ней, причем, как это ни парадоксально, одновременно увеличивались спрос на нефть и регулирование ее использования. Начиная с середины шестидесятых годов, вопросы экологии начали успешно бороться за свое место в политическом процессе как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Загрязнение воздуха заставляло коммунальные службы во все мире переходить от угля к нефти, которая меньше загрязняла среду. Тем самым появлялся еще один серьезный стимул к росту спроса на нефть. В 1965 году мэр Нью‑Йорка обещал изгнать уголь изгорода. В 1966 году в День благодарения Нью‑Йорк охватил экологический кризис; ядовитый туман окутал город, и сжигание угля было запрещено. За два года „Консолидейтед Эдисон“, обслуживающая Нью‑Йорк компания коммунального энергоснабжения, перешла на использование нефти. В 1967 году в сенате Соединенных Штатов законопроект о чистом воздухе прошел восемьдесят восемью голосами „за“ против трех. В 1970 году был принят федеральный закон о чистом воздухе, который ужесточал контроль за охраной окружающей среды: возможные последствия для окружающей среды крупных новых проектов должны были указываться и учитываться до того, как давалось разрешение на их осуществление. В тот же год в Нью‑Йорке сто тысяч человек прошли по Пятой авеню, отмечая День Земли, то есть день борьбы с загрязнением окружающей среды.
Однако ничто так сильно не отразило рост нового экологического сознания, как чрезвычайно широкая и острая реакция общественности на книгу „Пределы роста: доклад Римского клуба „Угроза человечеству“. Опубликованная в 1972 году, эта книга утверждала, что если развитие нескольких основных глобальных тенденций – демографический рост, индустриализация, загрязнение окружающей среды, производство продовольствия, потребление энергии и истощение природных ресурсов (в том числе нефти и природного газа) – не будет остановлено, то современная индустриальная цивилизация окажется на пороге гибели и „где‑то в течение следующих ста лет на планете будут исчерпаны возможности для роста“. В исследовании предупреждалось не только об истощении природных запасов, но и об экологических последствиях сжигания углеводородов, накопления в атмосфере окиси углерода и новых тревожных данных о глобальном потеплении. Предупреждение носило общий характер: привязка ко времени была крайне неопределенной.
Исследование было опубликовано в критический момент: с одной стороны, наблюдался всемирный экономический бум с высоким уровнем инфляции и даже еще более высокими темпами роста использования ресурсов, с другой, сокращение американских нефтяных резервов и катастрофический рост как американского импорта, так и всемирного энергопотребления. Более того, в индустриальном мире новое экологическое сознание начинало влиять на государственную политику и форсировать перемены в корпоративных стратегиях. По словам одного из главных управляющих „Сан ойл“, для энергетических компаний это означало переход к „новым правилам игры“. „Пределы роста“ стали главной темой в дебатах по вопросам энергетики и экологии. Выдвинутые аргументы были убедительным доводом для появления страха и пессимизма по поводу грядущего дефицита и сокращения ресурсов и распространились настолько широко, что в семидесятые годы стали формировать политику и ответную реакцию как импортеров нефти, так и ее экспортеров.
Движение в защиту окружающей среды сказалось на многих аспектах энергетического баланса. Ускорился отход от использования угля, росла опора на более чисто сгоравшую нефть. Распространилось мнение о том, что ядерное топливо, в отличие от углеводородов, будет способствовать улучшению экологической среды. Ускорился поиск новых нефтяных месторождений. И к концу шестидесятых годов возросли надежды на добычу нефти на калифорнийском шельфе. Ведь еще в конце девятнадцатого столетия с пирсов неподалеку от Сан‑та‑Барбары было начато бурение нефтяных скважин в воде. Прошло семьдесят с лишним лет и вдоль живописной береговой линии южной Калифорнии стали монтировать буровые установки. Но в январе 1969 года на пути буровой скважины в проливе Санта‑Барбара неожиданно оказалась геологическая аномалия, и около шести тысяч баррелей нефти, просочившись из не отмеченной на карте трещины в породе, вышли на поверхность. Ничем не сдерживаемая клейкая взвесь сырой нефти двинулась в прибрежные воды и покрыла толстым слоем около тридцати миль знаменитых пляжей. Взрыв общественного возмущения прокатился по всей стране и непосредственно затронул все политические круги. Администрация Никсона наложила мораторий на разработку месторождения, фактически прикрыв его. Как ни велика была потребность в нефти, утечка в Калифорнии усилила оппозицию развитию энергетики в других регионах, включая самый многообещающий регион Северной Америки, который, по всей вероятности, остановил бы спад американского производства и нейтрализовал растущую зависимость от Ближнего Востока – Аляска.
АЛЯСКИНСКИЙ ГИГАНТ
Еще в 1923 году президент Уоррен Гардинг создал на арктическом побережье Аляски топливный резерв военно‑морского флота, и в последующие годы отдельные компании на свой страх и риск вели в этом регионе разведочное бурение. После Суэцкого кризиса в 1956 году к разведке нефти на Аляске приступили „Шелл“ и „Стандард ойл оф Нью‑Джерси“, но в 1959 году, когда бурение самой дорогостоящей по тому времени скважины оказалось безрезультатным, работы были приостановлены.
Другой, проявлявшей интерес к этому региону компанией была „Бритиш петролеум“. После смещения Мосаддыка с поста премьер‑министра в Иране и после Суэцкого кризиса „Бритиш петролеум“ была преисполнена решимости сократить свою фактически полную зависимость от Ближнего Востока. В 1957 году, через год после Суэца, она приняла стратегически важное решение искать нефть в других регионах, в частности, в Западном полушарии. В этом ее решительно поддержало британское правительство. „Британские нефтяные компании четко представляют себе ненадежность опоры на нефтяные запасы Ближнего Востока, на которые они главным образом полагаются в своих операциях в Западной Европе и, по сути дела, во всем Восточном полушарии, – писал в частном письме премьер‑министр Гарольд Макмиллан австралийскому премьеру Роберту Мензису в 1958 году. – Они также знают, что правительство Соединенного Королевства, исходя из политических и экономических соображений, будет приветствовать любую акцию, предпринятую ими в целях ослабления зависимости от Ближнего Востока. У „Бритиш петролеум“, в частности, существуют свои коммерческие причины для расширения базы нефтедобычи; она пострадала от Суэцкого кризиса гораздо больше, чем любая другая крупная международная нефтяная компания и теперь стремится сократить, в рамках контролируемых ею ресурсов, свою уязвимость в случае прекращения поставок с Ближнего Востока“.
Для ослабления зависимости „Бритиш петролеум“ от Ближнего Востока „Синклер ойл“ предложила ей патентованное средство – совместное ведение разведки на Аляске. Но после дорогостоящего бурения на Норт‑Слоуп, Арктической прибрежной впадине, шести подряд скважин, оказавшихся сухими, обе компании приостановили работы. Определенный интерес к Аляске проявляла и „Галф ойл“. Некоторые ее специалисты настойчиво утверждали, что, несмотря на присутствие сухих скважин, геологические условия представляются многообещающими и что компании было бы целесообразно провести разведку на Норт‑Слоуп. Однако директора не хотели даже слушать об этом. „Баррель нефти обойдется в 5 долларов, – резко заявил один из них. – А выше пяти долларов цена одного барреля ни в жизнь не поднимется“.
Тем не менее разведочные работы на Аляске продолжались, их вела базировавшаяся в Калифорнии независимая компания „Ричфилд“. Особый интерес у нее вызывали мощные осадочные отложения в буквально недоступном Норт‑Слоуп. В 1964 году снова заняться Аляской решила „Джерси“, и, уплатив за участие в разработке в целом свыше 5 миллионов долларов, ее дочерняя компания „Хамбл“ стала партнером „Ричфилда“. В 1965 году это новое совместное предприятие выиграло тендер на ведение разведки в прибрежной структуре Норт‑Слоуп в заливе Прадхо‑Бей. Другим главным победителем было объединение „Бритиш петролеум“‑“Синклер“.
В тот же год „Ричфилд“ слилась с „Атлантик рифайнинг“, образовав компанию „Атлантик Ричфилд“, которая позднее стала называться „Арко“. Возглавил корпорацию Роберт О. Андерсон. Хотя Андерсон часто казался удивительно спокойным, чуть ли не безразличным ко всему, возможно, даже немного рассеянным человеком, он обладал той решимостью и целеустремленностью, без которых невозможен успех. Это был один из последних великих разведчиков нефти и нефтяных магнатов двадцатого столетия. Его отец, чикагский банкир, в тридцатые годы, соблюдая определенное благоразумие, ссужал деньгами независимых нефтяников Техаса и Оклахомы, когда все остальные вообще отказывали им в кредитах. Молодой Андерсон вырос возле Чикагского университета, учился в нем в период расцвета учебной программы „Великие книги“ и подумывал о карьере университетского профессора философии. Но нефтепромышленники, клиенты его отца, захватили воображение молодого Андерсона гораздо сильнее, чем ученые мужи, которые окружали его в университете, и в 1942 году он отправился в штат Нью‑Мексико, чтобы возглавить нефтеперерабатывающий завод мощностью 1500 баррелей в день. Вскоре он увлекся разведкой нефти и стал одним из самых известных независимых специалистов в этой области. Он обладал таким же даром, как Рокфеллер и Детердинг, быстро производить в уме сложнейшие арифметические подсчеты. В ранней юности он соперничал по скорости с логарифмической линейкой, позднее – с карманным калькулятором, а в дальнейшем имел обыкновение поправлять на совещании тех, кто ошибался на десятую долю единицы. „Я никогда не задумывался над такой способностью, – однажды сказал он. – Вся ее прелесть в том, что она помогает не останавливаться на деталях и идти непосредственно вперед. При ведении переговоров вы мгновенно учитываете какой‑то фактор, важность которого другая сторона не понимает. Предвидите дальнейший ход, то есть на повороте обходите соперника“. [Прим. пер. Учебная программа, основанная на чтении и обсуждении классической литературы, сменившая традиционные лекции.]
С годами Андерсон показал себя человеком с широкими и разносторонними интересами, стал настоящим интеллектуальным чудом в нефтяной промышленности. Его привлекали новые идеи, он разговаривал на равных с профессорами‑социологами, интересовался такими вещами, как духовные ценности, власть и социальные перемены и с удовольствием участвовал в семинарах, где обсуждались технология и гуманизм, окружающая среда и учение Аристотеля. Словом, несмотря на многочисленные успехи в своей профессии он никак не вписывался в имидж типичного нефтяного магната. Он верил во многое, что было абсолютно неприемлемо в его кругу. И все же в душе его жил первооткрыватель, разведчик нефти, и ни во что он не верил так страстно, как в „единственное и совершенное сердце промышленности“ – сырую нефть и запасы ее в недрах. „Можно бесконечно повторять, что главное в нашем деле – это способность переносить разочарования, – говорил он. – Если такой способности нет, вам не следует им заниматься, ведь девяносто процентов скважин вы бурите впустую. По сути дела, вам регулярно приходится терпеть поражение“. Все же остававшиеся 10 процентов приносили Андерсону успех, сделав его не только очень богатым человеком, но и, помимо всего прочего, самым крупным частным землевладельцем в Соединенных Штатах.
Но зимой 1966 года все шло к тому, что работы на Аляске войдут в девяностопроцентную колонку. „Арко“, при участии „Хамбл“, затратив огромные средства, пробурила скважину в шестидесяти милях к югу от северного побережья Аляски. Скважина оказалась сухой. В заливе Прадхо‑Бей, на Норт‑Слоуп планировалось пробурить еще одну разведочную скважину. Но стоило ли это делать? Теперь все зависело от Андерсона, от его решения. Андерсон верил в данные разведки, верил в присутствие сырой нефти. Но сухая скважина „Арко“ уже возглавляла список из шести сухих скважин „Бритиш петролеум“ и „Синклер“, а он занимался нефтяным бизнесом вовсе не для того, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Он произнес „о'кей“, хотя и без особой уверенности. Просто буровая установка все равно была уже на Аляске, и ее надо было лишь передвинуть на шестьдесят миль. „Это было решение не столько идти вперед, а лишь не прекращать уже запланированное бурение“, – сказал он позднее.
Весной 1967 года „Арко“‑“Хамбл“ начала рискованное предприятие, которое, не дав результатов, несомненно, стало бы концом разведки нефти в этом регионе. Скважину назвали „Прадхо‑Бей Стейт, номер 1“. 26 декабря 1967 года вибрирующий гул собрал у скважины толпу человек в сорок. Закутанные в тяжелые одежды – столбик термометра показывал тридцать градусов ниже нуля – нефтяники стояли на сильнейшем ветру, порывы которого достигали 30 узлов. Гул нарастал, казалось, что над их головами кружат по крайней мере четыре гигантских реактивных самолета. Это ревел природный газ. Его струя ударила на тридцать футов прямо вверх несмотря на штормовой ветер. Они нашли нефть! В середине 1968 года в семи милях от скважины № 1 пробурили „контрольную скважину“, которая указала на то, что открыто огромное месторождение, нефтяное месторождение мирового уровня. Настоящий гигант. По подсчетам технологической фирмы „Де Гольер и Мак‑Нотон“, промышленные запасы Прадхо‑Бей доходили до 10 миллиардов баррелей. Как ни неохотно давал Андерсон приказ начать бурение, это было самое важное решение в его карьере нефтяника. Прадхо‑Бей оказался крупнейшим нефтяным месторождением, открытым за всю историю Северной Америки, в полтора раза мощнее, чем месторождение „Папаша Джойнер“ в восточном Техасе, открытие которого сбило в начале тридцатых годов цены на нефть.
В условиях повышения спроса над предложением на мировом нефтяном рынке Прадхо‑Бей не мог нарушить какие‑либо ценовые структуры. Тем не менее он обладал огромным потенциалом замедлить рост американского импорта нефти и резко снизить напряжение в мировом нефтяном балансе. По предварительным подсчетам общая добыча должна была быстро подняться до свыше двух миллионов баррелей в день, что делало это месторождение третьим крупнейшим в мире после Гавара в Саудовской Аравии и Бургана в Кувейте. Первоначально“ Арко“ и „Джерси“, а также „Хамбл“, дочерняя компания „Джерси“, предполагали, что месторождение вступит в строй в течение трех лет. Его развитию должно было способствовать и упрощение структуры управления на Норт‑Слоуп: „Арко“ купила „Синклер“, успев буквально вырвать его из пасти конгломерата „Галф энд вестерн“, что явилось на тот период крупнейшим слиянием в Соединенных Штатах. Теперь Большую тройку на Норт‑Слоуп составляли „Арко“, „Джерси“ и „Бритиш петролеум“. „Арко“ в результате слияния с „Синклер“ стала седьмой крупнейшей нефтяной компанией в Соединенных Штатах.
Огромным препятствием к развитию месторождения были природные условия Крайнего Севера – это был недоступный, с экстремальными температурами, суровый и исключительно враждебный человеку „злобный, неприветливый и не прощающий промахов участок работы“, как заметил один из геологов. Он не был похож ни на один регион нефтедобычи. Технологий эксплуатации месторождений в такой среде не существовало. Почвы тундровой зоны были тверды как бетон, когда температура зимой падала до 60 градусов ниже нуля. Летом они оттаивали и становились топкими и болотистыми. Через тундру не было дорог, внизу была вечная мерзлота, уходившая местами на тысячу футов в глубину. Обычные стальные сваи, когда их забивали в вечную мерзлоту, ломались как соломинки для коктейлей.
Если эти препятствия можно было бы как‑то преодолеть, оставалась устрашавшая своей сложностью проблема транспортировки нефти. Серьезно рассматривалось использование танкеров ледокольного типа, которые бы проходили в Атлантику через толщу льдов замерзших арктических морей. Среди других предложений были подвесная монорельсовая дорога и перевозки автомобильным транспортом, постоянно курсирующим по некоей восьмиполосной магистрали через Аляску (пока не было подсчитано, что для этого потребуется почти весь парк грузовых машин Америки). Известный физик‑ядерщик рекомендовал использовать в качестве танкеров флот ядерных подводных лодок, которые проходили бы подо льдами к предназначенному для приема морских судов порту в Гренландии – порту, который в свою очередь надо было еще построить с помощью ядерного взрыва. „Боинг“ и „Локхид“ изучали возможность создания гигантских реактивных авиатанкеров.
Наконец было решено строить нефтепровод. Но в каком направлении? Одни предлагали прокладывать нефтепровод – протяженностью в восемьсот миль – от нефтепромыслов на юг к порту Валдиз, откуда танкеры будут перевозить нефть через залив Принс‑Уильям (что создавало экологическую угрозу окружающей среде) и далее на рынки сбыта. Другие предлагали строительство нефтепровода, полностью проходящего по суше, на восток через Аляску и Канаду, затем на юг в Соединенные Штаты, доводя его, возможно, до Чикаго. Защитники этого проекта утверждали, что канадский вариант более безопасен в плане экологии и, помимо этого, сократит расходы на строительство трубопровода для аляскинского природного газ, в то время как трансаляскинский путь чреват „массивными выбросами нефти при авариях танкеров“. Однако в трансаляскинском варианте были и свои преимущества. С точки зрения менеджмента он являлся „чисто американским путем“, то есть предположительно более безопасным и гибким – нефть с Аляски могла направляться либо в Соединенные Штаты, либо в Японию. Кроме того, нефтяникам придется иметь дело только с двумя правительствами – правительством одного американского штата и федеральным правительством США, вместо гораздо большего числа участников – с канадским федеральным правительством в Оттаве и тремя или даже четырьмя правительствами провинций и территорий, имеющих каждое в отдельности свою собственную фискальную систему, а также с канадскими защитниками окружающей среды и еще с двумя американскими штатами. Более того, у правительства Канады были, по‑видимому, свои возражения против трансканадского трубопровода. Учитывая все эти соображения, выдвигался и еще один аргумент в пользу трансаляскинского трубопровода: его можно было построить гораздо быстрее, чем канадский. Итак, было решено строить трансаляскинский трубопровод.
Строительство нефтепровода поставило множество инженерных проблем, требовавших огромного числа новых и оригинальных решений. Так, например, температура нефти на выходе из скважины составляла 70°С, в трубопроводе, лежавшем в слоях вечной мерзлоты – намного ниже нуля. При прохождении через участки вечной мерзлоты с высоким содержанием влаги нефть превратитих в болото, и лишенный опоры трубопровод просядет и перекроется. Но несмотря на всю сложность проблем, какие могли возникнуть на строительстве, группа компаний в составе „Арко“, „Джерси“ и „Бритиш петролеум“, плюс компании, занимавшие более слабые позиции на Норт‑Слоуп, бросились вперед и, не дожидаясь, пока американские компании займутся производством оборудования, закупили 500 тысяч тонн сорока восьми дюймовых труб у японской компании. Это была ошибка. Остановка в реализации проекта наступила даже еще до того, как трубопровод начали строить.
Сначала работы отодвинулись из‑за протестов эскимосов и других коренных жителей Аляски, а также ожесточенных споров среди партнеров. Но полная остановка наступила по совершенно иной причине: судебного запрета Федерального суда, выигранного защитниками окружающей среды в 1970 году. Сформировавшееся после разлива нефти в районе Сайта‑Барбары в 1969 году движение защитников окружающей среды, во многом расходившихся во взглядах, теперь единым фронтом блокировало строительство аляскинского трубопровода. Одни участники движения утверждали, что компании, не проведя полномасштабных исследований, слишком торопятся, у них нет понимания всей сложности проблем, нет разработанных технологий и внимания к деталям и что проектирование выполнено на низком уровне. Последствия какой‑либо аварии окажутся губительными для окружающей среды. Канадский вариант был, по их мнению, гораздо предпочтительнее, поскольку он создает меньшую угрозу для экологии. Помимо этого, прежде чем приступить к работам, говорили они, Соединенные Штаты должны принять программу более рационального использования энергии. Другие защитники окружающей среды утверждали, что природным ресурсам и уникальной природе Аляски будет нанесен невосполнимый урон или же они будут попросту уничтожены, и что этот проект вообще не следует осуществлять – в аляскинской нефти нет необходимости.
Горевшие нетерпением нефтяные компании, в полной уверенности, что им удастся преодолеть оппозицию, завезли на берега реки Юкон мощные бульдозеры и трейлеры корпорации „Катерпиллар“ на сумму в 75 миллионов долларов и были готовы начать строительство дорог и прокладку труб. Бульдозеры и трейлеры, как и сложенные в хранилища трубы, оставались без движения пять лет. Запрет на строительство трубопровода был по‑прежнему в силе. Нефть, которая, как ожидалось, должна была пойти с Аляски в 1972 году, не поступала, и американский импорт возрос. Что же касается механизмов и оборудования на берегах Юкона, нефтяные компании потратили миллионы долларов, поддерживая моторы в рабочем состоянии и постоянно их прогревая в ожидании дня начала работ.
Как раз в это время, когда стало очевидно, что использование новых источников нефти на Аляске и континентальном шельфе Калифорнии является крайне сомнительным, появилась другая многообещающая альтернатива – открытие нефти в Северном море. Но разработка месторождения в Северном море была весьма неопределенной. Предстоявший объем работ обещал стать гигантским по масштабам и чрезвычайно дорогостоящим. Природные условия были суровы и коварны. Как и на Норт‑Слоуп, добыча нефти в Северном море потребует уникальных новых технологий. И, кроме того, потребуется время, очень много времени. Однако эти месторождения объединял и еще один фактор: хотя их ресурсы находились в чрезвычайно труднодоступных местах, в политическом пла не они были стабильны. Но даже и при этом ни одно из них не могло повлиять на мировой баланс спроса и предложения, который становился все более напряженным. Все это означало, что по‑прежнему существует всего один регион, способный удовлетворять мировой, практически ненасытный аппетит на нефть. И этим регионом оставался Ближний Восток.
ДОКТОР
В один из последних августовских дней 1970 года в воздушном ливийском пространстве перед самым рассветом появился чартерный французский реактивный самолет „Фалькон“. Вскоре он приземлился в аэропорту Триполи. Дверца самолета открылась, и в раннем утреннем свете по трапу спустился небольшого роста, плотный господин, которому только что исполнилось семьдесят два года. Он был крайне обеспокоен. Настолько, что прилетел из Лос‑Анджелеса, нигде не задерживаясь, и сделал остановку в Турине только для того, чтобы пересесть с одного самолета на другой. Он опасался, что вот‑вот потеряет свою „жемчужину“ – так он называл принадлежащую его компании богатейшую нефтяную концессию в Ливии. Но вид у него, как всегда, был уверенный. Вся его жизнь была посвящена заключению сделок, и он твердо верил – это было его кредо, что, как он однажды сказал: „нет ничего хуже, чем не состоявшаяся сделка“.
Этим господином был доктор Арманд Хаммер, президент „Оксидентал петролеум“.
Если говорить о заключении сделок, Арманду Хаммеру практически не было равных в двадцатом столетии. Хаммер родился в 1898 году в Нью‑Йорке в семье еврейских эмигрантов из черноморского города Одессы. Его богатый одесский дядюшка владел, помимо всего прочего, местной дилерской сетью продаж продукции Форда. В девятнадцатом столетии Одесса была крупным торговым центром, где пересекались интересы западных промышленников и ближневосточных купцов, и в известном смысле дух Одессы всегда присутствовал в крови Арманда Хаммера. Его отец, доктор Джулиус Хаммер, был не только практикующим врачом и фармацевтом, но и сторонником левого движения, в 1907 году он встречался в Европе с Лениным и был одним из основателей американской коммунистической партии. Арманд не разделял социалистических идей отца, его интересовало лишь одно: как делать деньги и добиваться выгодных сделок, короче, это был капиталист.
В 1921 году только что окончивший медицинский колледж молодой Хаммер отправился в Россию с грузом медикаментов для разрушенной войной страны. Кроме того, он рассчитывал получить 150 тысяч долларов, которые советская власть задолжала фармацевтическому бизнесу его семьи. Через отцовских знакомых о нем стало известно Ленину, который разрешил определенную конкуренцию в разрушенной экономике России, и поощрял торговлю с буржуазным Западом. Ленин проявил к Хаммеру особое внимание, рекомендуя его Сталину, он писал: „Тут маленькая дорожка к американскому „деловому“ миру, и надо всячески использовать эту дорожку“.
Итак, Хаммер вместе со своим братом Виктором остался в России, чтобы делать бизнес в условиях ленинской новой экономической политики – он получил концессию на разработку асбестовых месторождений на Урале, контракт по закупкедля России тракторов и другой промышленной продукции Форда и разрешение открыть в Москве карандашную фабрику. Он сумел учредить даже собственные фактории по добыче пушнины в Сибири, где содержал охотников на пушных зверей. Но когда в конце десятилетия к власти пришел Сталин, он почувствовал запах перемен и своевременно упаковал чемоданы. Вдвоем с Виктором они вывезли огромное количество произведений русского искусства, которые продали через универсальные магазины в Нью‑Йорке. После этого Хаммер пустился в погоню за миллионами в самых различных предприятиях, начиная с изготовления пивных бочек и кукурузного виски и заканчивая продажей фермерам бычьей спермы.
Ему было пятьдесят восемь лет, когда в 1956 году он приехал в Лос‑Анджелес, намереваясь, как и многие другие в этом возрасте, удалиться от дел. Теперь это был богатый человек, известный владелец художественной галереи и коллекционер. В поисках лазеек для уклонения от налогов он вложил некоторые средства в нефть, а затем, отчасти из спортивного интереса, купил небольшую компанию „Оксидентал“, которая была на грани разорения. О нефтяном бизнесе Хаммер не имел ни малейшего представления. Тем не менее в 1961 году „Оксидентал“ сделала свое первое значительное открытие в Калифорнии. Заядлый коммерсант, Хаммер приобрел несколько компаний, и к 1966 году ежегодный объем продаж „Оксидентал“ составлял почти 700 миллионов долларов.
Путем ловких сделок и благодаря умению выбрать наиболее выгодный момент, Хаммер в конечном счете превратил „Оксидентал“ в одну из крупнейших транснациональных нефтехимических корпораций. Общепринятая вертикаль управления была не для него. Звоня по телефону в разные точки Земного шара практически в любое время суток, он, подобно современному Маркусу Сэмюелю, вел дела, полагаясь лишь на себя. Его политические связи были уникальны. Его способность проникать во все места была поразительной. Его личное состояние было огромным. Во время никогда не прекращавшихся переговоров, Хам‑мер мог быть, как сказал однажды один из его конкурентов, „отечески заботливым и очень милым“, и всегда разряжал напряженную обстановку каким‑нибудь анекдотом. Но, в стремлении к цели он был тверд и беспощаден. Продвигая свои интересы, он проявлял великий талант позволить людям слышать то, что они хотели услышать. „Это один из величайших актеров мира“, – едко сказал о Хаммере кто‑то из тех людей, каждый из которых, крайне заблуждаясь, видел себя непосредственным преемником.
Во времена Хрущева Хаммер возобновил отношения с Советским Союзом. Это привело к тому, что он побывал посредником между пятью советскими генеральными секретарями и семью президентами Соединенных Штатов. Он имел уникальный доступ в Кремль. Уже в 1990 году в возрасте девяноста двух лет, Хаммер по‑прежнему был активным президентом „Оксидентал“, и верные акционеры продолжали курить ему фимиам. Действительно, он стоял в одном ряду с величайшими пиратами – создателями нефтяного бизнеса: Рокфеллером, Сэмюелем, Детердингом, Гульбенкяном, Гетти и Маттеи. Но одновременно он был и анахронизмом, капером из прошлого, „торговцем из Одессы“ по духу, колесящим по миру на своем корпоративном самолете в поисках следующей выгодной сделки. И именно такая сделка в Ливии сделала его международным магнатом6.
Безумная погоня за ливийской нефтью уже шла полным ходом, когда в 1965 году „Оксидентал“ выиграла во втором круге торгов тендер на разработку не фти в Ливии. Предложенная компанией цена выделялась среди 119 других предложений, она была написана от руки, под личным наблюдением Хаммера, на пергаменте, перевязанном красными, черными и зелеными лентами, повторявшими цвета ливийского флага. В качестве „благодарности“ „Оксидентал“ обещала построить сельскохозяйственную экспериментальную ферму в пустынном оазисе, где провел детство король Ливии Идрис и где был похоронен его отец. Хаммер подарил королю шахматы из золота, компания также выплатила ожидаемые доплаты и особое комиссионное вознаграждение тем, кто помог получить концессии.
Участки за номером 102 и 103, которые выиграла „Оксидентал“, охватывали почти две тысячи квадратных миль лишенной растительности, каменистой, выжженной солнцем пустыни в районе Сирт, более чем в сотне миль от Средиземного побережья. „Тяжелее всего было мириться с неоправдавшими надежд скважинами“, – как‑то сказал Хаммер. Действительно, первые несколько скважин были абсолютно безрезультатными. К тому же бурение их обошлось очень дорого. Правление директоров „Оксидентал“ начало громко ворчать по поводу „прихоти Хаммера“. По их мнению, Ливия была местом для крупных воротил бизнеса. Но Хаммер в своих намерениях был настойчив.
И его настойчивость была вознаграждена. Осенью 1966 года на участке 102 забила нефть. Но это событие померкло при сравнении с тем, что произошло сорока милями западнее, на участке 103, впоследствии названном „Промысел Идрис“. „Оксидентал“ начала бурение непосредственно под тем местом, где располагался базовый лагерь „Мобил ойл“, которая ранее вела здесь поиски, а затем отказалась от концессии. Первая скважина давала 43 тысячи баррелей в день, затем феноменально проявила себя другая – 75 тысяч баррелей в день! „Оксидентал“ открыла одно из богатейших месторождений в мире. И помогли этому незначительному калифорнийскому коммерсанту обнаружить то, что пропустила „Мобил ойл“, недавно разработанные сейсмические технологии. После открытия нефти в Ливии, Хаммер сказал: „Небеса разверзлись. Мы стали одними из тех воротил, о которых говорило правление директоров“.
1967 год принес Хаммеру еще одну удачу – после „шестидневной войны“ Суэцкий канал оставался закрытым, и ливийский нефтяной бум превратился в настоящее сумасшествие. По предварительным подсчетам инженерной нефтяной фирмы „Де Гольер и Мак‑Нотон“, из открытой к тому времени нефти на долю только одной „Оксидентал“ приходилось 3 миллиарда баррелей разведанных запасов – то есть почти треть запасов, открытых в то же время на Норт‑Слоуп на Аляске! Но то, что не могло быть сделано на Аляске – строительство трубопровода, безусловно, могло быть осуществлено в Ливии. По общепринятым нормам, трубопровод длиной в 130 миль через пустыню мог быть построен за три года. Но при форсировании темпов работ его построили менее чем за год. Так менее чем через два года после получения концессий „Оксидентал“ приступила к отправке нефти в Европу. Вскоре она ежедневно получала в Ливии свыше 800 тысяч баррелей. Начав с нуля, „Оксидентал петролеум“ стала шестой крупнейшей нефтедобывающей компанией в мире и с помощью контрактов и покупки собственной системы сбыта пробилась на конкурентный европейский рынок.
И все же этот внезапно появившийся колосс очень непрочно стоял на ногах, поскольку сам его успех находился в односторонней зависимости от Ливии. Стареющий король Идрис не мог существовать вечно. В поисках других источников доходов Хаммер задумал приобрести „Айлент‑Крик коул“ и „Ситибанка“. Ответ всюду был одинаков: можно ожидать, что в ближайшие пять‑шесть лет в Ливии сохранится политическая стабильность, а „после смерти короля Идриса произойдет планомерная передача власти“. Слияние состоялось. Шел 1968 год. Эксперты ошиблись.
ЛИВИЙСКОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
В ночь с 31 августа на 1 сентября 1969 года разбуженный начальником караула старший офицер невнятно пробормотал, что еще слишком рано – переворот намечен на несколько дней позже. Увы, произошедший той ночь переворот оказался для него совсем не тем, которого он ждал. В течение многих месяцев в ливийских вооруженных силах зрели многочисленные проекты заговоров – различные группировки офицеров и политиков готовились свалить пошатнувшийся режим короля Идриса. Однако группа радикально настроенных молодых офицеров во главе с харизматическим Муамаром Каддафи опередила всех, в том числе и своих командиров, которые планировали антиправительственный заговор всего лишь тремя‑четырьмя днями позднее. По сути дела, многие военные, участвуя в перевороте 1 сентября, не знали, ни кто возглавляет его, ни какими силами он организован.
Каддафи и его сторонники начали подготовку к перевороту еще десятилетие назад, подростками в средней школе. Вдохновленные примером Гамаля Абдель Насера, его книгой „Философия революции“ и передачами египетской радиостанции „Голос арабов“, они решили строить свою жизнь и борьбу против режима „по Насеру“. Они также решили, что путь к власти не обязательно лежит через партийную политику и что более рациональный путь – через военную академию. В представлении Каддафи, как тонко заметил один из обозревателей, революционные доктрины Насера накладывались „на идеи ислама времен пророка Мухаммеда“. Эта группа офицеров была в совершенном восторге от деятельности египетского лидера и от его идеи арабского единства. В свое время Каддафи будет стремиться продолжить его дело. Прирожденный заговорщик, как и Насер, к тому же эксцентричный и непостоянный в своих мнениях, с резкой сменой настроений от эйфории до глубокой депрессии, он попытается стать не только лидером арабского мира, но даже его символом. Добиваясь этой цели, он будет устраивать бесконечные заговоры и кампании против Израиля, сионизма, других арабских государств, против Запада и, обладая огромными доходами от нефти, станет банкиром и спонсором, а также „хозяином“ террористических групп по всему миру.
После успешного сентябрьского переворота среди первых действий нового Совета революционного командования Каддафи была ликвидация английских и американских баз в Ливии и высылка довольно значительного по численности итальянского населения. Каддафи также закрыл все католические церкви в стране, приказал снять с них кресты, а имущество храмов продать на аукционах. Затем в декабре 1969 года была предотвращена попытка антиправительственного заговора, и утверждение власти Каддафи успешно завершилось. Теперь он был готов заняться нефтяными делами. В январе 1970 года офицеры Совета ре волюционного командования начали наступление на иностранные компании с требованиями повысить объявленную цену на нефть. Каддафи предупредил директоров двадцати одной оперирующей в Ливии нефтяной компании, что, если его требования не будут удовлетворены, он прикроет добычу нефти. „Люди, жившие без нефти 5000 лет, – заявил он, – могут прожить без нее и еще несколько лет ради того, чтобы вернуть свои законные права“.
Первой сильному нажиму подверглась „Эссо‑Ливия“. Военное правительство потребовало увеличения объявленной цены на 43 цента за баррель. „43 цента в то время! – вспоминал директор „Эссо‑Ливия“. – Боже милостивый! Это было неслыханно“. „Эссо“ предложила пять центов. Другие компании были готовые не уступать ни на йоту. Поставленные в трудное положение компанией „Джерси“ и другими крупными компаниями, большинство которых вело добычу нефти и в других регионах, ливийцы взялись за единственную компанию, не имевшую таких источников, – „Ок‑сидентал“. Они хорошо понимали ее уязвимость. Как выразился один ливиец, „они сложили все яйца в одну корзину“. В конце весны 1970 года „Оксидентал“ было приказано сократить добычу, – источник ее жизнеспособности, с 800 тысяч баррелей в день до 500 тысяч. На тот случай, если компания окажется недостаточно догадливой, ливийская полиция начала останавливать, обыскивать и запугивать служащих компании. Хотя сокращение добычи и преследования распространялись и на другие компании, „Оксидентал“ пользовалась особым вниманием такого рода.
Наступление Ливии на нефтяные компании началось в исключительно благоприятное для нее время. Ливия поставляла 30 процентов необходимой Европе нефти. Суэцкий канал был все еще закрыт, и напряженная ситуация в перевозках сохранялась. Затем в мае 1970 года в Сирии бульдозером был поврежден трубопровод, по которому из Саудовской Аравии к Средиземноморскому побережью ежедневно перекачивалось 500 тысяч баррелей. Цены на танкерные перевозки немедленно подскочили втрое. Недостатка в нефти не было, не хватало тоннажа для ее транспортировки. Ливия же во главе с Каддафи занимала центральную позицию через Средиземное море от европейских рынков, и от такого преимущества ливийцы отказываться не собирались. Сокращение добычи в Ливии резко обострило напряженность на рынке, к тому же в период между закрытием трансаравийского трубопровода и ливийским сокращением с рынка внезапно были сняты в целом 1,3 миллиона баррелей в день. Более того, что касалось мировой экономики и стратегии, молодые ливийские военные действовали отнюдь не вслепую, сейчас в Триполи в качестве советника революционного правительства находился Абдалла Тарики, радикал и антизападник националистического толка, вышедший в отставку с поста министра нефтяной промышленности в Саудовской Аравии.
По мере усиления нажима, беспокойство Хаммера росло. Он отправился в Египет просить кумира Каддафи, президента Насера вмешаться в действия своего „ученика“. Обеспокоенный, что прекращение добычи в Ливии поставит под угрозу ливийские субсидии египетской армии, Насер посоветовал Каддафи проявлять осторожность. Он также посоветовал ливийскому лидеру не повторять его ошибок – Египет дорого заплатил за полигику национализации и выдворение иностранных экспертов. Эти советы Насера остались без внимания.
Хаммер попытался найти другие компании, которые компенсировали бы „Оксидентал“ недостающий объем нефти по себестоимости „Оксидентал“, еслиона не уступит ливийским требованиям, а затем будет национализирована. Безуспешно. Даже обращение к Кеннету Джеймисону, президенту „Экссон“, не принесло нужной Хаммеру нефти, по крайней мере, на желательных для него условиях. Хаммер был разочарован и мрачен. Но Джеймисон, возможно, просто не принял его всерьез. „Вполне понятно, что Джеймисон отказал Хаммеру, – сказал в частном разговоре один из главных советников Хаммера. – К нему, самому президенту „Экссон“, третьей крупнейшей в мире корпорации, обращается какой‑то торговец картинами, человек из другого круга, пришедший неизвестно откуда, и предлагает план решения мировой проблемы“.
Отчаявшись найти альтернативный источник нефти, Хаммер разработал еще один глобальный план. За ужином на ранчо Линдона Джонсона в Техасе он попытался провернуть бартерную сделку, в которой выступил бы посредником при обмене военных самолетов корпорации „Макдоннел‑Дуглас“ на иранскую нефть. Эта попытка также не дала результатов. Он уже исчерпал практически все возможности, когда в конце августа 1970 года раздался тревожный телефонный звонок Джорджа Уильмсона, его управляющего в Ливии, предупреждавшего, что ливийцы собираются национализировать промыслы „Оксидентал“. И именно это предупреждение погнало его в ночное путешествие в Триполи.
С ливийской стороны переговоры вел заместитель премьер‑министра Абдель Салам Джеллуд, считавшийся в отличие от пуританина Каддафи любителем шуток и развлечений, но тем не менее в переговорах крайне безжалостный и неуступчивый. Однажды во время переговоров с представителями „Тексако“ и „Стандард оф Калифорния“, желая показать свое неудовольствие, он скатал из листка с их предложениями шарик и швырнул его им в лицо. В другом случае он появился в зале, где присутствовало множество директоров нефтяных компаний с автоматом через плечо. Во время первой встречи с Хаммером Джеллуд, предложив доктору булочки и кофе, расстегнул пояс и выложил револьвер 45 калибра на стол перед Хаммером. Чуть не лишившись самообладания, Хаммер постарался улыбнуться. Ему никогда прежде не приходилось вести переговоры под дулом пистолета.
Каждый день Хаммер вел напряженные, изматывающие переговоры. И каждую ночь улетал обратно в Париж и там в отеле „Ритц“, где он меньше опасался подслушивания, связывался по телефону с правлением своих директоров в Лос‑Анджелесе. Для таких каждодневных полетов в Париж была еще одна причина. Предложение Джеллуда остановиться во дворце, ранее принадлежавшем свергнутому королю Идрису, вызывало у Хаммера опасения, что его пребывание там может „затянуться“ на продолжительный срок. Все же он ослабил меры предосторожности. В первый день он прилетел в Триполи на зафрахтованном французском самолете, опасаясь, что его личный самолет ливийцы могут захватить. Теперь он каждое утро возвращался из Парижа уже на собственном, более удобном „Гольфстрим‑II“, оборудованном спальней с пробковыми стенками. Он прибывал в Париж в 2 часа ночи и к 6 утра снова вылетал в Триполи. У него всю жизнь сохранялась удивительная способность засыпать в любых условиях, и во время этих перелетов она ему очень пригодилась.
Обсуждение все тянулось, а на улицах толпы людей уже готовились праздновать первую годовщину переворота, выкрикивая лозунги, призывающие покончить с врагами режима. Все же переговоры подошли к долгожданному концу, когда Хаммер и Джеллуд обменялись рукопожатием. Они достигли соглашения и, казалось, сделка вот‑вот будет заключена, когда внезапно возникло новое препятствие, касавшееся формы контракта. Исполненный подозрений, Хаммер немедленно покинул страну, поручив Джеймсу Уильмсону все оставшиеся формальности. На следующий день, укрывшись в парижском отеле „Ритц“, он узнал, что окончательные договоренности подписаны. Ливийцы добились двадцатипроцентного увеличения отчислений и налогов за право разработки недр. Теперь „Оксидентал“ могла оставаться в Ливии. Что же касается других компаний, они долго проявляли нерешительность, но к концу сентября буквально все уступили, хотя и с огромным нежеланием. Ливийцы торжественно обещали, что будут придерживаться новых соглашений в течение пяти лет.
Главным в происшедших событиях было не увеличение объявленной цены на 30 центов и ливийской доли прибыли с 50 процентов до 55. Гораздо большее значение имел тот факт, что ливийские соглашения решительно изменили баланс сил между правительствами стран‑экспортеров и нефтяными компаниями. Победа Ливии придала странам‑экспортерам смелости. Она не только резко повернула движение маятника цен в сторону повышения реальной цены на нефть, но и возобновила борьбу экспортера за суверенность и контроль над своими нефтяными ресурсами, которая началась десятилетием ранее с основанием ОПЕК и потом затихла. Для нефтяных компаний это было начало отступления. „Нефтяная отрасль, какой мы ее знали, долго не просуществует“, – сказал один из директоров „Джерси“, отвечавший за добычу в Ливии, точно и коротко определив суть новых соглашений. Предчувствия представителя „Оксидентал“ Джорджа Уильмсона относительно того, насколько велики будут грядущие перемены, тоже не обещали ничего хорошего. Готовясь поставить свою подпись под окончательным текстом документов, он сказал коллеге: „В западном мире эти перемены почувствует каждый, у кого есть машина, будь то трактор, грузовик или легковой автомобиль“. После подписания документов Уильмсон и его помощники сидели вместе с ливийцами, потягивая апельсиновый сок с содовой – самое лучшее, что можно было найти в запрещавшей алкоголь стране, и молча раздумывали над неопределенностью будущего.
СКАЧКИ ЦЕН
Шах Ирана просто не мог допустить, чтобы его обошли ливийские молодые и самодовольные офицеры‑выскочки. В ноябре 1970 года он добился увеличения отчислений от прибылей нефтяного консорциума с 50 до 55 процентов. Затем компании пришли к выводу, что у них нет иного выбора, как отдавать 55 процентов и в других странах Персидского залива. С этого началась игра скачкообразного повышения цен. Венесуэла приняла закон, который повышал ее долю прибыли до 60 процентов, а также допускал одностороннее повышение цен без согласования с компаниями или переговоров с ними. Конференция ОПЕК утвердила уровень в 55 процентов и угрожала закрыть добычу тем компаниям, которые не выполнят требования. Она также требовала, чтобы переговоры нефтяных компаний велись с региональными группами экспертов, а не с ОПЕК в целом. Затем в начале 1971 года Ливия выставила новые требования, обойдя снова Иран. Игра явно грозила стать бесконечной, если компании не образуют единый фронт. Главным защитником идеи создания общего фронта был Дэвид Барран, президент „Шелл транспорт энд трейдинг“. „По мнению „Шелл“, – говорил Барран, – лавина ценовых перемен уже обрушилась. И без объединенного фронта компании будут вытеснены одна за другой“. Усилиями Баррана был разработан общий подход, компании будут единым блоком вести переговоры с ОПЕК, а не с отдельными странами. Таким путем, надеялись они, поток требований удастся остановить. Добившись от министерства юстиции США отмены одного из положений антимонопольного законодательства, нефтяные компании приступили к созданию „Фронта Юни“, т. е. объединенного фронта по типу того самого блока, который был образован против Советской России в двадцатые годы. Но мир сейчас стал гораздо более сложным, число активных ифоков в нем существенно возросло. Современный „Фронт Юни“ охватывал два десятка компаний – американских и неамериканских, что составляло около четырех пятых от числа нефтяных компаний западного мира. Эти компании создали также „ливийскую сеть безопасности“ – тайную договоренность о том, что если добыча какой‑либо компании будет урезана из‑за отказа выполнить требования правительства Каддафи, другие компании возместят ей потери нефти. Это был тот самый вид сделки, которую шесть месяцев назад не удалось осуществить Хаммеру при переговорах с „Экссон“. Его принятие явилось, как отметил американский атташе по вопросам нефти в Ливии Джеймс Плэк, „перемирием“ между монополиями и независимыми компаниями.
15 января 1971 года компании поспешно направили экспортерам нефти так называемое „Письмо ОПЕК“, призывавшее к глобальному, всестороннему урегулированию. Целью его было поддержать объединенный фронт и добиться ведения переговоров с ОПЕК как единой организацией, а не с отдельными экспортерами или их подгруппами, как она того хотела. В противном случае компании оказыв?лись совершенно беззащитными перед бесконечными скачками цен.
Однако шах был решительно против плана компаний по „всестороннему“ урегулированию, поскольку, как утверждал он, „умеренные“ не смогут сдержать „радикалов“ – Ливию и Венесуэлу. Тем не менее, если компании предложат разумный подход и будут вести переговоры с каждой страной Персидского залива отдельно, он обещает устойчивое соглашение, которое будет соблюдаться в течение пяти лет. „Если же компании прибегнут к каким‑то уловкам, – добавил он, – Персидский залив будет для них закрыт, и никакая нефть оттуда не пойдет“.
Переговоры начались в Тегеране. „Фронт Юни“ представлял Джордж Пирси, управляющий „Экссон“ по странам Ближнего Востока, и лорд Страталмонд, управляющий „Бритиш петролеум“, по профессии юрист. Последний был дружелюбный весельчак, страшно любивший разыгрывать кувейтского министра нефтяной промышленности, которого из‑за его внешности он называл „Граучо“, т. е. „Ворчун“. Отец лорда Страталмонда, Уильям Фрейзер, был президентом „Бритиш петролеум“ во время событий, повлекших устранение Мосаддыка, и оставался крайне непопулярным человеком в Иране, настолько непопулярным, что лорду Страталмонду приходилось объяснять путавшим его с отцом иранцам, „это – я, а не мой отец“.
Компании считали, что в борьбе с шахом они располагают поддержкой правительства США, но, прибыв в Тегеран, Пирси и Страталмонд обнаружили, что Вашингтон уже согласился с мнением шаха. Они были ошеломлены и возмущены. „Это делает переговоры глупейшим занятием“, – сказал Пирси. 19 января Пирси и Страталмонд встретились с членами персидского регионального комитета ОПЕК – иранским министром финансов Джамшидом Аму‑зерагом (получившим образование в Корнельском и Вашингтонском университетах), министром нефтяной промышленности Саудовской Аравии Заки Ямани (обучавшемся в Нью‑йоркском университете, а затем окончившем Гарвардскую школу права), Саадуном Хаммади (ученая степень по экономике сельского хозяйства Висконсинского университета). Министры были непреклонны. Они соглашались обсудить цены на нефть только по странам Персидского залива, а не по странам ОПЕК. И это было все. Шах, со своей стороны, осуждал намерения компаний и грозил введением эмбарго, если компании не согласятся с его точкой зрения. Он даже призывал в помощь тень Мосаддыка. „Условия 1951 года больше не существуют, – жестко напомнил он. – Теперь в Иране никто не прячется под одеялом и не скрывается в забаррикадированной комнате. Попытки добиться единых „всесторонних“ переговоров либо шутка, либо намерение оттянуть время“.
Таким образом, на первом этапе никаких результатов достигнуто не было. В частной встрече с Пирси Ямани сказал: да, то что слышал Пирси, верно. Среди стран‑экспортеров действительно идут разговоры о введении эмбарго с целью усиления позиций. Более того, Ямани признал, что Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны Персидского залива поддерживают эту идею. Пирси был в шоке. Саудовцы никогда, за исключением военного времени, не вводили эмбарго на нефть. Получила ли идея эмбарго, спросил он, поддержку короля Фейсала? Да, ответил Ямани, а также шаха. Пирси настоятельно просил Ямани отказаться от этого шага. „Я полагаю, вы не осознаете проблему, стоящую перед ОПЕК, – ответил Ямани. – Я должен поддерживать это намерение“9.
Как это было ни тяжело, но компании признали, что придется отказаться от попыток принятии всестороннего подхода, иного выбора не было. Они согласились вести переговоры с каждой страной в отдельности. В противном случае никакого урегулирования вообще не будет достигнуто, страны‑экспортеры будут просто назначать свои цены. Компаниям необходимо было любой ценой сохранить видимость, хотя бы только видимость, что экспортеры действуют на основании оговоренных с ними цен, а не просто решают эти вопросы сами.
Итак, должны были состояться два раунда переговоров: один в Тегеране и один в Триполи. 14 февраля 1971 года в Тегеране компании капитулировали. Новое соглашение похоронило принцип пятьдесят на пятьдесят. Благословенные позиции выполнили свою функцию, они прожили два десятилетия и теперь их время кончилось. Новое соглашение устанавливало пятьдесят пять процентов как минимальную долю правительства и поднимало цену барреля нефти на 30 центов, сохраняя возможность дальнейшего ежегодного повышения. Экспортеры торжественно обещали: никаких повышений в следующие пять лет сверх того, о чем уже было договорено.
Тегеранское соглашение явилось своеобразным водоразделом: инициатива перешла от компаний к странам‑экспортерам. „Это было настоящим поворотным пунктом для ОПЕК, – сказал один из ее представителей. – После тегеранского соглашения власть перешла к ОПЕК“. Сразу же после подписания соглашения шах, катавшийся на лыжах с гор швейцарского Санкт‑Морица, благословил его. „Что бы ни случилось, – заверил он, – скачка цен больше не будет“. Предсказание президента „Шелл“ Дэвида Баррана оказалось более верным. „Нет сомнений в том, – сказал он, – что рыночная конъюнктура, выгодная для покупателей, перестала существовать“.
Теперь наступил второй этап переговоров, о цене нефти ОПЕК в районе Средиземного моря. В Средиземноморский комитет входили Ливия и Алжир, а также Саудовская Аравия и Ирак – частично их нефть перекачивалась по нефтепроводам к Средиземноморскому побережью. Спустя несколько дней после тегеранского соглашения в Триполи начались переговоры с Ливией и, конечно, с майором Джеллудом, возглавлявшим переговоры с арабской стороны. Джеллуд прибегнул к своей, теперь уже хорошо известной, тактике – запугиванию, революционным проповедям, угрозам наложить эмбарго и провести национализацию. 2 апреля 1971 года было объявлено о достижении соглашения. Объявленная цена была поднята на 90 центов – намного выше, чем указывалось в тегеранском соглашении. Ливийское правительство повысило свои доходы от нефти почти на 50 процентов.
Шах был вне себя от ярости. Его опять обскакали.
УЧАСТИЕ: „НЕРАСТОРЖИМОЕ, КАК КАТОЛИЧЕСКИЙ БРАК“
Заложенные в тегеранском и триполийском соглашениях гарантии сохранять стабильность цен в течение пяти лет оказались иллюзорными. Вскоре ОПЕК потребовала в качестве компенсации девальвации доллара в начале семидесятых годов повысить объявленную цену, что привело к новому сражению. Но и его затмил другой, более значительный конфликт, драматически изменивший отношения компаний и стран. Борьба разгорелась по вопросу об „участии“: частичному приобретению странами‑экспортерами права собственности на нефтяные ресурсы в пределах своих стран. В случае победы стран‑экспортеров это бы означало радикальную реструктуризацию нефтедобывающей отрасли и коренное перераспределение ролей всех игроков.
Нефтяные операции за пределами Соединенных Штатов большей частью основывались на системе концессий, история возникновения которых уходит корнями во времена Уильяма Нокса Д'Арси, отправившегося в 1901 году в смелое и рискованное путешествие в Персию. При такой системе нефтяная компания на договорной основе с правителем суверенного государства получала право владеть землей, вести изыскания и добывать нефть на оговоренной территории независимо от того, будет ли она настолько огромной, как полученные Д'Арси 480 тысяч квадратных миль в Персии или 2 тысячи квадратных миль „Оксидентал“ в Ливии. Но сейчас, с точки зрения стран‑экспортеров нефти, концессии были уже наследием прошлого, пережитком эры колониализма и империализма и абсолютно неприемлемы в веке деколонизации и стремления к национальной независимости. Эти страны не хотели быть просто сборщиками налогов. Речь шла не только о повышении доходов в виде ренты. Главным для стран‑экспортеров был суверенитет над их собственными природными ресурсами. И все остальное, соответственно, рассматривалось только с точки зрения достижения этой цели. Очевидным решением для некоторых стран‑экспортеров была полная национализация – как, например, в России после революции или в Мексике и Иране. В качестве альтернативы национализации и полному владению была придумана концепция „участия“, то есть частичного получения собственности в результате переговоров – такая позиция отвечала интересам некоторых крупнейших стран‑экспортеров. Нефть была не только предметом национальной гордости и силы – это был бизнес. Полная национализация привела бы к разрыву связей с международными компаниями и заставила страну‑экспортера заниматься сбытом самостоятельно. Таким образом, эта страна должна была столкнуться с тем же препятствием, которое было камнем преткновения для независимых компаний, создавших большие запасы нефти на Ближнем Востоке, то есть проблемой реализации. Это приведет к битве с другими экспортерами за рынки, а нефтяные компании получат не только возможность, но и стимул искать на рынке более дешевый баррель, поскольку теперь они будут получать прибыль на продажах нефти потребителю, а не на ее добыче.
„Став производителями и продавцами нашей нефти, мы окажемся в условиях жесточайшей конкурентной гонки в нефтедобыче“, – говорил в 1969 году шейх Ямани, предупреждая об опасностях полной национализации. Результатом ее будет „стремительный крах ценовой структуры, поскольку каждая из добывающих стран будет стремиться сохранить доходные статьи своего бюджета, компенсируя потери от падения цен поставками на рынок постоянно растущего объема нефти“. Затраты и риск скажутся не только в сфере экономики: „финансовая нестабильность неизбежно приведет к нестабильности политической“. Ямани настаивал на том, что именно совместное владение с крупнейшими компаниями, а не их изгнание – вот тот путь, который удовлетворяет цели экспортеров и в то же время сохраняет систему, приостанавливавшую падение цен. Это создаст, говорил он, узы „нерасторжимые, как католический брак“.
Концепция участия вполне устраивала Саудовскую Аравию, участие означало постепенные перемены, что было предпочтительнее ниспровержения всего нефтяного порядка. Но для других экспортеров постепенного перехода было недостаточно. Алжир, даже без видимости переговоров, забрал 51 процент собственности во французских нефтепромыслах, оставшейся у Франции десять лет назад, когда Алжир добился независимости. Венесуэла приняла закон, по которому все концессии после истечения их срока в начале восьмидесятых переходят к правительству.
Сама ОПЕК потребовала немедленного осуществления программы участия, угрожая компаниям „совместными действиями“, сокращением квот добываемой нефти, если ее требования не будут удовлетворены. Контроль со стороны ОПЕК был поручен Ямани. Давление на компании возрастало. В конце 1971 года после ухода англичан из Персидского залива Иран захватил несколько небольших островов вблизи Ормузского пролива. Воинственно настроенной частью арабов это было воспринято как кровное оскорбление: захват арабской территории неарабами. Желая наказать англичан за „тайный сговор“ в осуществлении этого подлого удара в спину, находящаяся в 2400 милях Ливия национализировала арендованные „Бритиш петролеум“ участки. Ирак национализировал последние остатки „Иракской нефтяной компании“, концессию Киркук, открытое в двадцатые годы богатейшее нефтеносное месторождение, главный предмет борьбыГульбенкяна с крупнейшими нефтяными компаниями, обеспечивавшее значительную часть нефтедобычи в Ираке. „Саудовцы не могут в одиночку противостоять общемировой тенденции национализации, – предупреждал Ямани. – Нефтяная отрасль должна это осознать и принять как данность, если она хочет сохранить по возможности большее число своих позиций“.
Тем не менее до заключения каких‑либо соглашений предстояло подробно обсудить несколько основных проблем, в том числе важнейший вопрос определения стоимости. Например, в зависимости от выбора бухгалтерской учетной формулы 25 процентов „Кувейтской нефтяной компании“ могли стоить где‑то от 60 миллионов до 1 миллиарда долларов. В конце концов в этом случае две стороны сошлись на создании нового учетного принципа, „скорректированной балансовой стоимости“, которая учитывала инфляцию и крупные поправочные коэффициенты. И в октябре 1972 года между государствами Персидского залива и компаниями было наконец достигнуто „соглашение об участии“. Оно предусматривало немедленное выделение двадцатипятипроцентной доли участия в капиталах нефтяных компаний при дальнейшем ее увеличении до 51 процента к 1983 году. Но, несмотря на одобрение ОПЕК, реализация соглашения в остальных странах была менее популярна, чем надеялся Ямани. Алжир, Ливия и Иран выступили против. Министр нефтяной промышленности Кувейта одобрил соглашение, но кувейтский парламент его отклонил, так что Кувейт оказался в числе несогласных. Компании, входившие в „Арамко“, в конечном счете, согласились с Саудовской Аравией в вопросе об участии, поскольку альтернативный вариант был гораздо хуже – полная национализация. Президент „Экс‑сон“ выразил надежду, что принятие соглашения будет способствовать „более стабильным отношениям“, поскольку оно „поддерживает существенную посредническую роль частных международных нефтяных компаний“. Другие были в этом не столь уверены. В Нью‑Йорке на совещании руководителей нефтяных компаний, проходившем под председательством Джона Мак‑Клоя, „Арамко“ объявила о своем первоначальном решении согласиться на участие. В конце обсуждения, когда мнения резко разошлись, Мак‑Клой попросил высказаться Эда Гинна, одного из директоров независимой „Банкер хант компани“, ведущей операции в Ливии. Гинн был расстроен. По его мнению, любая уступка в Персидском заливе только подстегнет Ливию выставлять все более жесткие требования. Кроме того, исходя из только что услышанного на совещании, добавил он, план „Арамко“ напоминает ему анекдот о двух висящих в шкафу скелетах, который он тут же и рассказал.
„Как мы здесь оказались?“ – спрашивает один скелет у другого. „Не знаю, – отвечает тот. – Но если б у нас было побольше потрохов, мы бы выбрались отсюда“.
„Совещание закончено!“ – тут же выкрикнул Мак‑Клой, и все разошлись.
После сделки Ямани с „Арамко“, Ливия забрала свыше 50 процентов нефтедобычи итальянской государственной нефтяной компании ЭНИ, затем приступила к экспроприации промыслов „Банкер хант“. Блокируясь с жестоким диктатором Уганды Иди Амином Дала, Каддафи гордо заявил, что забрав „Банкер хант“, он нанес „внушительный удар“ по холодному и надменному лицу Соединенных Штатов. Затем Каддафи приступил к национализации 51 процента промыслов других работавших в Ливии компаний, в том числе и компании Хам‑мера „Оксидентал петролеум“. Шах был решительно настроен провести более выгодную сделку, чем Саудовская Аравия. Но для него вопрос участия особой роли не играл. После национализации в 1951 года Иран уже владел нефтью и производственными мощностями, но всеми нефтяными делами фактически заправлял образованный в 1954 году консорциум, а не „Иранская национальная нефтяная компания“ (ИННК). Так что целью шаха было не только увеличение нефтедобычи и финансовый паритет, соответствовавший выбитому Ямани соглашению, но и гораздо больший контроль. И этой цели он добился. ИННК стала не только владельцем, но и эксплуатационником, компании же, образовавшие в 1954 году консорциум, создали новую корпорацию, которая, заменив прежний консорциум, стала подрядчиком ИННК. Официальное признание „Национальной иранской нефтяной компании“ было первостепенным для государственной компании и значительной символической победой в стремлении шаха сделать ее одной из главных международных нефтяных компаний. Это было победой и для него лично. Теперь он был на пути к своему высшему торжеству. „Наконец я победил, – объявил он. – Семидесяти двум годам иностранного контроля над производством в нашей промышленности положен конец“.
ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ
С ростом контроля стран‑экспортеров над нефтяными компаниями либо в результате участия, либо полной национализации, возрос их контроль над ценами. Если еще совсем недавно они пытались увеличить свой доход за счет вала, сражаясь за поставку на рынок все растущего числа баррелей, что, по‑видимому, лишь сбивало цены, то теперь стремились к повышению цен. Новый подход поддерживался и напряженным балансом спроса и предложения. В результате в Тегеране и Триполи родилась новая система: цены стали предметом переговоров между компаниями и странами, причем страны играли ведущую роль в подталкивании вверх объявленной цены. Компании оказались не в состоянии сколотить новый эффективный „Фронт Юни“. Не смогли этого сделать и их правительства. По сути дела, правительства стран‑потребителей особенно и не хотели поддерживать или поощрять компании в их конфронтации с экспортерами. Они были поглощены другими вопросами, среди которых цены на нефть не занимали приоритетного места. К тому же некоторые считали, что повышение цен было в любом случае оправданным и даже полезным, стимулируя сохранение природных запасов и поощряя разработку новых энергоносителей.
Но был еще один серьезный момент, объяснявший такую позицию двух ведущих западных правительств. И Великобритания, и Соединенные Штаты гораздо больше были заинтересованы в сотрудничестве, а отнюдь не в конфронтации и с Ираном, и Саудовской Аравией, и в добавление к этому не возражали против увеличения их доходов. К началу семидесятых годов Иран и Саудовская Аравия, откликнувшись на просьбу султана Омана оказать помощь в подавлении выступлений радикалов, играли роль региональных полицейских. Их закупки оружия быстро возрастали – прекрасный показатель растущих цен на нефть и создания новой структуры безопасности в Персидском заливе.
Но оставим в стороне политику и личности. Сложившийся в начале семидесятых годов баланс спроса и предложения предвещал крайне серьезные перемены: дешевая нефть была великим благом для экономического роста, но такое положение не могло сохраняться. Спрос не мог расти теми же темпами, как ранее, возникла необходимость в разработке новых месторождений. Это была ситуация, сложившаяся из‑за отсутствия резервных мощностей. Чем‑то надо было пожертвовать, и этим чем‑то стала цена. Но как и когда? Это были критические вопросы. Некоторые считали, что решающим годом станет 1976, когда истечет срок действия тегеранского и триполийского соглашений. Но соотношение спроса и предложения было уже крайне напряженным.
Хотя промышленные запасы на Ближнем Востоке были, конечно, огромны, действующие производственные мощности увязывались главным образом с реальным спросом. Еще в 1970 году за пределами Соединенных Штатов наличествовал резерв производственных мощностей до 3 миллионов баррелей в день, большая часть которых концентрировалась на Ближнем Востоке. К 1973 году дополнительные мощности в чисто физическом выражении сократились вдвое: примерно до 1,5 миллиона баррелей в день. Это составило приблизительно 3 процента от общего спроса. Между тем некоторые ближневосточные страны во главе с Кувейтом и Ливией уже снижали нефтедобычу. К 1973 году избыточные производственные мощности, которые могли рассматриваться как реально „наличествующие“, в общей сложности составляли лишь 500 тысяч баррелей в день. Это был всего лишь один процент всего потребления в западном мире.
Не только в нефтяной, но почти в любой отрасли промышленности, даже при отсутствии политических факторов, уровень использования в 99 процентов и страховой запас в один процент рассматривались бы как чрезвычайно опасное соотношение. Политические факторы только усиливали эту опасность.
Что все это могло означать в будущем? Одним из тех, кто с тревогой наблюдал за развитием ситуации, был американский дипломат Джеймс Плэк. Десять лет назад, когда образовалась ОПЕК, он был советником по экономике в посольстве США в Багдаде, а сейчас занимался вопросами нефти в посольстве США в Триполи. В конце ноября 1970 года он решил изложить тревожившие его мысли в докладе госдепартаменту. Прошло пятнадцать месяцев с тех пор, как группа никому неизвестных офицеров совершила в Триполи государственный переворот, и почти три месяца после того, как эти же офицеры произвели переворот в нефтяной ценовой политике. Плэк ежедневно посылал сообщения в госдепартамент в течение всего периода борьбы ливийцев с „Оксидентал“, „Эссо“, „Шелл“ и другими компаниями, но сейчас наступило время, чтобы оглянуться назад и подвести итоги. Жара спала, немного штормило, со стороны Средиземного моря налетали порывы ветра, и в воздухе висел острый запах соли и моря. Находившихся в Ливии иностранных граждан охватило гнетущее чувство беспокойства и даже страха. Ходили постоянные слухи о том, что на кого‑то напали, кого‑то задержали или выслали. Служащие компаний и западные дипломаты видели следующие за ними машины спецслужб, хорошо заметные в боковом зеркале, так как обычно это были белые „фольксвагены‑жуки“.
Над докладом в Ваишнгтон Плэк работал несколько недель. Он не хотел слишком сгущать краски, чтобы его сочли паникером и оставили его телеграмму без внимания. Работая, он посматривал в единственное окно своего похожего на чулан кабинета напротив через узкую улочку на офис „Оксидентал“, где инженеры стояли у кульманов, словно все шло как обычно, и ничего не изменилось. Но Плэк понимал, что изменилось решительно все. Прежние игры в нефтедобыче закончились, даже если в Вашингтоне или Лондоне никто этого полностью не осознавал. В международном нефтяном порядке произошли необратимые перемены. В докладе, который он наконец отправил в декабре в Вашингтон, утверждалось, что произошедшие в Ливии события дают весьма веские основания полагать, что производящие страны „преодолеют свои разногласия и, объединившись, приступят к сокращению добычи и повышению цен“.
Но вопрос касался не только денег, речь шла о власти. „Степень зависимости западных промышленных стран от нефти как источника энергии, – писал Плэк, – хорошо известна, и действенность фактического сокращения добычи, как средства нажима с целью повышения цен на нефть, уже была наглядно продемонстрирована“. Он полагал, что США, их союзники, а также вся нефтяная отрасль просто не готовы ни морально, ни политически „овладеть ситуацией при изменившемся балансе власти в нефтяной политике“. Ставки были высоки. Помимо всего прочего, хотя „нефтяное оружие“ не сработало в 1967 году, при „существующих условиях мотивация тех, кто призывает к использованию арабской нефти в качестве оружия при близневосточном конфликте, также получает дополнительное подкрепление“.
Он добавил еще один как бы заключительный пункт: „контроль над потоком ресурсов является вопросом стратегического значения на протяжении всей истории. Утверждение контроля над жизненно важным источником энергии позволит ближневосточным странам восстановить отношение к Западу с позиции силы, которое этот регион давно утратил“. Плэк подчеркивал, что не выступает за поддержание статус‑кво. Это было невозможно. Главное заключалось в том, чтобы понять, какие перемены происходят в мире, и быть к ним готовым. Величайшей ошибкой было бы невнимание к этому вопросу.
Доклад Плэка произвел настолько сильное впечатление на посла, что он, для придания ему большего веса, отправил его за своей подписью. Но как Плэку стало известно, в Вашингтоне никто не обратил на него серьезного внимания. И он был оставлен без ответа.
ГЛАВА 29. НЕФТЯНОЕ ОРУЖИЕ
10 октября 1973 года за несколько минут до 2.00 ночи, когда по календарю того года наступал еврейский национальный праздник Йом‑Киппур, 222 египетских реактивных самолета взмыли в небо. Их целями были командные пункты и позиции израильтян на восточном берегу Суэцкого канала и Синайском полуострове. Несколько минут спустя огонь по всей линии фронта открыли свыше 3000 полевых орудий. Почти одновременно сирийские самолеты нанесли удар по северной границе Израиля, а за ним последовал артиллерийский обстрел из 700 орудий. Так началась „октябрьская война“, четвертая из арабо‑израильских войн – самая разрушительная и напряженная из всех, война, которая привела к крайне серьезным последствиям. Оружие участникам конфликта было поставлено супердержавами: Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Но один из самых мощных видов потенциального оружия принадлежал Ближнему Востоку. Это было „нефтяное оружие“ – эмбарго, сокращение добычи нефти и ограничение экспорта – оружие, по словам Генри Киссинджера, „бесповоротно изменившее сложившийся в послевоенный период мир“.
Эмбарго, как и сама война, явилось полной неожиданностью и вызвало шок. Однако в ретроспективе все представлялось по некоторым признакам очевидным. К 1973 году нефть стала основой мировой экономики, – ее качали и использовали, не задумываясь о будущем. За весь послевоенный период соотношение спроса и предложения никогда прежде не было таким напряженным, а узел взаимоотношений стран‑экспортеров и нефтяных компаний не затягивался столь стремительно. Это была ситуация, в которой любой дополнительный нажим мог ускорить кризис – в данном случае кризис глобального масштаба.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ВЫХОДЯТ НА МИРОВОЙ РЫНОК
В 1969 году с приходом в Белый дом администрации Ричарда Никсона в американской политической повестке дня начали появляться вопросы энергетики и снабжения нефтью. Главную тревогу вызывал быстрый рост импорта нефти. Обязательная программа по его ограничению, которую десятилетие назад был вынужден принять президент Эйзенхауэр, функционировала с растущим напряжением, рождая споры между компаниями и регионами и серьезные диспропорции в распределении. Ее лазейки и исключения хорошо просматривались и были чрезвычайно выгодны тем, кто умел ими пользоваться. В связи с этим Никсон учредил специальную комиссию по контролю за импортом во главе с министром труда Джорджем Шульцем. Комиссия должна была пересмотреть программу квот и представить рекомендации по необходимым изменениям.
Политики стран‑потребителей, а также коммунальные службы и нефтехимические компании с нетерпением ожидали ослабления ограничительных мер, это позволило бы им получать более дешевую нефть. „Независимые“, однако, решительно выступали за сохранение квот, – это обеспечивало им более высокие цены, чем на мировом рынке. Что касается крупнейших компаний, которые десять лет назад выступали против введения квот, то к этому времени они уже примирились с существующей системой и приспособились к ней, – она их вполне устраивала. Цены на нефть, производимую ими в стране, были защищены, а для продажи закупаемой иностранной нефти существовала устоявшаяся сеть сбыта за пределами Соединенных Штатов. Поэтому многие крупные компании были встревожены перспективой перемен и выступали против нее.
Комиссия Шульца выступила с предложением вообще отказаться от квот, заменив их тарифами. Таким образом, устранялась бы необходимость санкционированного государственными органами распределения, а его задача переходила к рынку. Политическая реакция на доклад Шульца была не только бурной, но и ошеломляюще негативной. Американская нефтегазовая промышленность уже находилась на недопустимо низкой точке падения производства; с 1955 года число буровых установок неуклонно сокращалось, и в 1970 – 1972 годах достигло самого низкого уровня – немногим больше трети от уровня середины пятидесятых. Сто конгрессменов, опасаясь, что предлагавшиеся меры будут означать еще больший рост импорта, подписали письмо, осуждавшее доклад Шульца, видя в нем угрозу отечественной промышленности. Никсон, будучи трезвым и расчетливым политиком, положил доклад Шульца на полку и сохранил квоты.
Это, конечно, разочаровало тех, кто хотел отмены системы квот, ту группу, интересы которой выходили за пределы потребления нефти в Соединенных Штатах. Так, в письме Никсону шах Ирана утверждал, что безопасность и экономическое развитие Ирана требует преодоления квотовых барьеров и увеличения продажи нефти непосредственно в Соединенные Штаты. Администрация Никсона отнеслась с пониманием к стремлению шаха увеличить добычу нефти и, следовательно, свой доход. Это объяснялось, как заметил один из советников аппарата Белого дома, „вакуумом власти в Персидском заливе“, образовавшимся после ухода англичан. Но администрация Никсона отнюдь не собиралась отменять ограничения на импорт ради того, чтобы доставить удовольствие шаху. „Ваше разочарование по поводу того, что нам не удалось найти путь для увеличения продаж иранской нефти в Соединенных Штатах, вполне понятно“, – писал Никсон шаху. – „Отсутствие положительного решения этого вопроса вызвано огромной сложностью проблем в нашей политике по импорту нефти“. Хотя в письме и звучали нотки некоторого оправдания, Никсон тем не менее обещал послать шаху экземпляр доклада комиссии Шульца для личного ознакомления1. Однако к этому времени во всей энергетической системе Соединенных Штатов уже четко просматривались вызывавшие беспокойство политиков признаки напряженности. Зимой 1969 – 1970 годов, самой холодной за последние тридцать лет, запасы нефти и газа оказались недостаточны. Спрос на нефть с низким содержанием серы, которую приходилось импортировать из таких стран как Ливия и Нигерия, за эти месяцы резко вырос, поскольку электроэнергетика общего пользования переходила с угля на нефть. Наступившим летом ограничение мощностей электроэнергетических систем привело к резкому уменьшению освещенности улиц, зданий и витрин по всему Атлантическому побережью. Тем временем резервные производственные мощности в Соединенных Штатах по мере того, как отрасль выбирала каждый последний баррель для удовлетворения нараставшего спроса, подошли к концу.
В начале семидесятых годов при хронических проблемах поставок, в американской политической лексике начало появляться выражение „энергетический кризис“, а в узких кругах утверждаться единое мнение, что положение Соединенных Штатов будет крайне сложным. Главной причиной тревоги был быстрый рост спроса на все виды энергии. Контроль над ценами, введенный Никсоном в 1971 году как часть общей антиинфляционной программы, препятствовал росту внутреннего производства нефти и одновременно стимулировал потребление. Росла напряженность и с поставками природного газа, главным образом из‑за системы регулирования, которая устанавливала контроль над ценами и не поспевала за изменениями рыночной конъюнктуры. Искусственно установленные низкие цены фактически сдерживали инициативы в проведении новых изысканий и в экономии расходования. Во многих регионах электростанции работали практически с предельной нагрузкой, что сохраняло угрозу уменьшения освещенности или даже выхода из строя целых энергосистем. Коммунальные службы в срочном порядке размещали заказы на новые, атомные электростанции, видя в них решение целого ряда проблем, в том числе растущего спроса на электроэнергию, перспективы роста цен и новых ограничений на сжигание угля в целях защиты окружающей среды.
В первые месяцы 1973 года по мере того, как волна спроса на нефть продолжала подниматься, у независимых переработчиков возникли трудности с поставками, а на горизонте уже маячила нехватка бензина с наступлением летнего сезона, когда на дорогах резко увеличивается число автомашин. В апреле Никсон впервые выступил с президентским посланием по вопросам энергетики, в котором сделал чреватое важными последствиями заявление: он отменяет систему квот. Внутреннее производство, даже защищенное квотами, уже не поспевало за волчьим аппетитом Америки. В ответ на политическое давление Капитолийского холма администрация Никсона немедленно довела до конца свое решение об отмене квот, введя „добровольную“ систему распределения, которая должна была обеспечивать поставки нефти независимым переработчикам и сбытовикам. Эти два решения, последовавшие одно за другим, отчетливо показывали, насколько изменилась обстановка: квоты имели целью управление поставками и их ограничение в мире избытка. Теперь же, в условиях нехватки, задачей новой системы стало распределение всех возможных поставок.
„НА ЭТОТ РАЗ ВОЛК УЖЕ ЗДЕСЬ“
С появлением вопросов энергоснабжения в политической повестке дня один из главных нефтяных экспертов госдепартамента, Джеймс Эйкинс, высокий и угрюмый сотрудник иностранной службы, был откомандирован для работы в аппарат Белого дома. Еще недавно, работая в госдепартаменте, он руководил секретным исследованием по вопросам нефти, на основе которого сделал вывод, что мировая нефтяная отрасль переживает „последние дни выгодной для покупателя конъюнктуры“. И далее, что „к 1975 году, а возможно, и ранее мы придем к устойчивому рынку, где конъюнктура будет выгодна для продавцов, и любой из нескольких крупнейших поставщиков сможет создать кризис поставок, прекратив продажу нефти“. Наступило время, говорил он, „положить конец нескончаемым исследованиям проблемы энергоснабжения“ и перейти к действиям. Соединенные Штаты должны сократить темпы роста потребления, повысить производство у себя дома и перейти к импорту по возможности из „надежных источников“. Эти меры, говорил он, „будут настолько же непопулярны, насколько дороги“. Однако что касается непопулярности и дороговизны, вопрос этот изучен не был, поскольку ни одна из этих мер не получила одобрения. На деле же, с быстрым ростом импорта, происходило совершенно обратное.
В апреле 1973 года в тот самый месяц, когда Никсон отменил квоты, Эйкинс, теперь уже в положении сотрудника аппарата Белого дома, снова попытался предпринять действия по борьбе с надвигавшимся кризисом. Он подготовил секретный доклад с целым рядом предложений, среди которых были более широкое использование угля, создание синтетических видов топлива, более жесткие меры экономии (включая высокий налог на бензин) и резкое повышение ассигнований на НИОКР с тем, чтобы выйти из‑под власти углеводородов. К его идеям отнеслись с недоверием. „Экономия не входит в этический кодекс Республиканской партии“, – безапелляционно заявил главный советник по внутренним вопросам в аппарате Белого дома Джон Эрлихман. В тот же месяц Эйкинс публично высказал свою тревогу, опубликовав в „Форин афферс“ статью, заголовок которой говорил об основных экономических и политических тенденциях: „Нефтяной кризис: на этот раз волк уже здесь“. Статья была прочитана очень многими. Но она носила крайне противоречивый характер, а аргументы Эйкинса были весьма далеки от того, чтобы их можно было принять или хотя бы с ними согласиться. Так, одновременно со статьей Эйкинса журнал „Форин полней“ – недавно появившийся самонадеянный конкурент „Форин афферс“ – опубликовал очерк „Реальна ли возможность нехватки нефти?“. В статье со всей определенностью утверждалось, что нет, не реальна. Объявляя о том, что „мировой энергетический кризис, то есть нехватка нефти, является сущим вымыслом“, автор очерка как бы подталкивал читателей к мысли, что сам Эйкинс входит в группу политических интриганов, объединяющую сотрудников госдепартамента, экспортеров нефти и ряд компаний.
Тем не менее набатный колокол прозвучал. Однако ни в Соединенных Штатах, ни в промышленно развитых странах не последовало какой‑либо особой реакции или, что следует подчеркнуть, какого‑либо определенного консенсуса, который был необходим для более согласованных предупреждающих действий.
Теперь, сняв импортные барьеры, Соединенные Штаты стали вполне созревшим и весьма прожорливым участником мирового нефтяного рынка. Они присоединились к другим потребителям, выступая все с большими требованиями к Ближнему Востоку. Другого выбора, кроме как ликвидировать квоты, практически и не было. Но их отмена привела к росту нового огромного спроса на уже охваченном лихорадкой рынке. Компании покупали любую нефть, которая им попадалась. „Несмотря на весь объем имевшейся у нас сырой нефти“ – вспоминал впоследствии президент отделения „Галф ойл“ по поставкам и торговле, – я считал, что мы должны были продолжать ее покупать. Нам нужна была диверсификация, расширение диапазона экономической деятельности“. К лету 1973 года импорт Соединенных Штатов составлял ежедневно уже 6,2 миллиона баррелей по сравнению с 3,2 миллиона в 1970 году и 4,5 миллиона в 1972 году. Независимые переработчики также бросились на мировые рынки, расширяя группу охваченных безумием покупателей, набавляя цену на все попадавшиеся под руку наличные запасы. Журнал новостей промышленности и торговли „Петролеум интеллидженс уикли“ в августе 1973 года сообщил, что „близкая к панике скупка нефти американскими и европейскими независимыми, а также японскими компаниями“ порождает „стремительный рост цен“.
В условиях ограниченных наличных запасов рост мирового спроса привел к тому, что рыночные цены превысили официальные справочные. Это была решающая перемена, обусловленная тем, что двадцатилетние запасы подходили к концу. В течение этого длительного периода рыночные цены, складываясь под влиянием хронического избытка предложения, были ниже справочных цен, что обостряло отношения между компаниями и правительствами. Но теперь произошла радикальная смена позиций, и страны‑экспортеры, безусловно, не намеревались допускать, чтобы разница между справочной и рыночной ценами уходила в карманы компаний.
Экспортеры, рассчитывая увеличить свою долю доходов за счет растущих цен, сразу же потребовали пересмотра условий участия и выкупа. Самой агрессивной была Ливия. В четвертую годовщину переворота Каддафи – 1 сентября 1973 года, – она национализировала 51 процент операций еще не взятых под контроль компаний. В ответ последовало предостережение Никсона: „Нефть при отсутствии сбыта, как много лет назад убедился мистер Мосаддык, не приносит стране большой пользы“. Но это жесткое предупреждение осталось без внимания. Каддафи отделяли от Мосаддыка не просто двадцать каких‑то лет, а коренные изменения конъюнктуры рынка. Когда Мосаддык национализировал „Англо‑иранскую компанию“, в других странах Ближнего Востока шло бурное развитие новых производственных мощностей. (Эти источники легко заполнили пробел, оставленный Ираном.) Но теперь, в 1973 году запасных резервных мощностей не было. Рынок, безусловно, существовал, но он не был насыщен. И у Ливии не было никаких проблем с продажами экологически более чистой нефти с низким содержанием серы.
Радикально настроенные члены ОПЕК – Ирак, Алжир и Ливия – потребовали пересмотра двух вроде бы неприкосновенных документов – тегеранского и триполииского соглашений. Поздней весной и летом 1973 года, видя повышение цен на открытом рынке, такую же позицию заняли и другие экспортеры. Они ссылались на рост инфляции и девальвацию доллара, но главным аргументом было, конечно же, повышение цен. Между 1970 и 1973 годами рыночная цена на нефть увеличилась вдвое. Доходы экспортеров росли с каждым баррелем, но на рынке, характеризовавшимся ростом цен, увеличивалась также и доля доходов компаний. Это резко расходилось как с целями экспортеров, так и с их идеологией. С их точки зрения, достававшийся компаниям кусок пирога должен был уменьшаться, а отнюдь не расти. Система цен, базировавшаяся на тегеранском соглашении 1971 года, „теперь уже не работает“, заявил Ямани президенту „Арамко“ в июле 1973 года. К сентябрю Ямани уже приготовился произнести надгробное слово над тегеранским соглашением: оно „либо уже мертво, либо находится при смерти“. Если компании не пойдут на сотрудничество в выработке нового соглашения по ценам, добавил он, экспортеры будут „в одностороннем порядке осуществлять свои права“. Так, с переменами в экономике нефти менялась и нефтяная политика, причем самым драматическим образом.
ТАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ САДАТА: ИГРА ВА‑БАНК
Пришедший к власти после смерти Насера в 1970 году Анвар Садат рассматривался многими как фигура крайне незначительная и временная. Считалось, что срок его президентства не превысит нескольких месяцев или даже недель. Но нового президента Египта явно недооценили. „Действительно, наследство, оставленное мне Насером, было в жалком состоянии“, – позднее сказал он. Садат получил страну, которая при высокой риторике панарабизма была, с его точки зрения, политическим и моральным банкротом. Безудержные амбиции и самоуверенность, царившие после успехов Египта в Суэцком кризисе 1956 года, давно превратились в прах, особенно после поражения в 1967 году. Экономика была развалена.
У Садата не было амбициозного желания возглавить некое объединенное арабское государство, простирающееся от Адриатики до Персидского залива: убежденный националист, он хотел сконцентрировать все усилия не на панара‑бистских химерах, а на восстановлении экономики Египта.
Свыше 20 процентов валового национального продукта Египет выделял на военные расходы. (Немногим меньше выделял и Израиль – 18 процентов.) Как при таком положении можно было добиться вообще какого‑либо успеха в развитии экономики? Садат хотел выйти из круга конфликтов с Израилем, из тупиковой дипломатии. Он хотел определенной стабилизации и урегулирования, но через пару лет бесплодных переговоров и обсуждений пришел к выводу, что пока Израиль находится на берегу Суэцкого канала, это невозможно. У Израиля не было особого интереса в переговорах, а Садат не мог вступить в них при том положении слабости и унижения, в котором пребывал Египет, и уж, конечно, в то время, когда весь Синайский полуостров находится в руках Израиля. Он должен был что‑то предпринять. Прежде всего он начал укреплять свое положение внутри страны и обеспечивать себе свободу действий на международной арене. Он провел чистку среди просоветски настроенных египтян; затем в июле 1972 года, хотя Советский Союз продолжал снабжать его оружием, он выслал из страны советских военных советников и технических экспертов, общая численность которых составляла около 20 тысяч человек. Антисоветская направленность этих акций не вызывала в Вашингтоне сомнений в том, что их цель – завоевать доверие США. Тем не менее ожидаемой реакции Запада и, в частности, Соединенных Штатов Садат не получил. В конце 1972 – начале 1973 годов Садат пришел к важному решению. Он перейдет к военным действиям. Это единственный путь к достижению его политических целей. „Самым поразительным было то, что поначалу буквально никто не осознавал до конца, что собой представляет этот человек, – скажет позднее Киссинджер. – Целью Садата было не столько получение территориальных преимуществ, сколько разжигание кризиса, который разморозит застывшие отношения между сторонами и таким образом откроет путь к переговорам. Неожиданность и шок дадут возможность обеим сторонам, в том числе и Египту, продемонстрировать гибкость, что было невозможно, пока Израиль считал себя превосходящей в военном отношении стороной, а Египет был парализован в результате нанесенного ему унижения. Короче говоря, цель Садата была в большей степени психологической и дипломатической, чем военной“.
Решение Садата было хорошо просчитано; он действовал, исходя из положения Клаузевица, утверждавшего, что война – это продолжение политики, только другими средствами. Тем не менее Садат шел к этому решению с глубоким ощущением его неизбежности, хорошо понимая, что играет ва‑банк. И хотя о возможности войны делались намеки и даже шли разговоры, ее вероятность не воспринималась всерьез, особенно теми, кому предстояло стать ее участниками, то есть израильтянами. Однако к апрелю 1973 года Садат уже начал разрабатывать с президентом Сирии Хафезом Асадом стратегические планы совместных египетско‑сирийских военных действий. Действия Садата – конкретные детали подготовки и сама реальность войны – держались в строжайшей тайне. Одним из немногих, вне высшего командования Египта и Сирии, с кем Садат делился своими планами, был король Саудовской Аравии Фейсал. И это означало, что в предстоящем конфликте главную роль будет играть нефть.
С НЕФТЯНОГО ОРУЖИЯ СНЯТЫ ЧЕХЛЫ: ФЕЙСАЛ ПЕРЕДУМЫВАЕТ
С начала пятидесятых годов в арабском мире шли усиленные разговоры о некоем, еще не получившем четкого определения „нефтяном оружии“, которое арабский мир для достижения своих целей предполагал использовать против Израиля. Цели ставились от полного уничтожения Израиля до получения от него территориальных уступок. Однако применение этого оружия постоянно сдерживал тот факт, что Ближний Восток, хотя запасы его нефти и считались неисчерпаемыми, был не единственным ее поставщиком в мире. Дополнительный объем нефти всегда могли быстро поставить на мировой рынок Техас, Луизиана, Оклахома. Но стоило США довести использование производственных мощностей до 100 процентов, как этот старый воин – американская добыча нефти – не смог бы снова подняться и защитить от нефтяного оружия.
В начале семидесятых годов с ростом напряженности мирового рынка в различных кругах арабского мира все громче начали раздаваться призывы к использованию нефтяного оружия как средства решения экономических и политических задач. Король Саудовской Аравии Фейсал не принадлежал к этим кругам. Он ненавидел Израиль и сионизм не меньше любого другого арабского лидера и твердо верил в существование сионистско‑коммунистического заго вора с целью захвата Ближнего Востока. Он даже говорил об этом и Насеру, и Никсону, считая, что радикальные палестинские террористы находятся, по сути дела, на содержании у израильтян. Тем не менее Фейсал сделал все возможное, чтобы не допустить применения нефтяного оружия. Летом 1972 года, когда Са‑дат призвал к использованию нефтяных ресурсов в качестве средства политического давления, Фейсал сразу же высказался решительно против. Это не только бесполезно, сказал он, „даже думать об этом опасно“. Политику и нефть не следовало смешивать. Такой урок извлекла для себя Саудовская Аравия во время войны 1967 года. Сократив экспорт нефти, она не добилась никаких результатов, лишь потеряв часть своих рынков и доходов. По мнению Фейсала, сокращение добычи вряд ли как‑то могло затронуть Соединенные Штаты, поскольку ближневосточная нефть не потребуется им ранее 1985 года. „Поэтому я считаю, что это предложение должно быть исключено, – решительно подчеркнул он, – и не вижу смысла даже обсуждать его в данное время“.
В предостережении Фейсала присутствовали как политические, так и экономические мотивы. На Аравийском полуострове в Южном Йемене, там, где еще совсем недавно над портом Аден развевался британский флаг, образовалось уже одно марксистское государство, а в других частях полуострова вели активные выступления революционно настроенные партизаны. В 1969 году, в том же самом году, когда группы заговорщиков сбросили монархию в Ливии и гражданское правительство в Судане, в Саудовской Аравии был раскрыт заговор группы офицеров военно‑воздушных сил. Фейсал опасался распространения в арабском мире радикализма, ставившего под вопрос легитимность королевской власти. Он понимал, что в экономическом и политическом отношении его страна прочно привязана к Соединенным Штатам, и это определяет его королевскую власть не только в плане процветания страны, но и безопасности. И предпринимать какие‑либо враждебные действия против правительства, которое играет такую важную роль в твоем выживании, вряд ли было бы желательно. Все же в начале 1973 года Фейсал пересмотрел свою точку зрения. Почему?
Причиной этого отчасти был рынок. Гораздо скорее, чем ожидалось, ближневосточная, а не американская, нефть стала главным и последним источником поставок. И главным ее поставщиком для всех стран мира, в том числе Соединенных Штатов, стала именно Саудовская Аравия. Зависимость Соединенных Штатов от Персидского залива наступила к 1973 году, а не к 1985, как предсказывалось. Саудовская Аравия наконец вышла на позиции, которые ранее занимал Техас, и теперь это находящееся среди пустыни королевство стало производителем, от которого зависел весь мир. Соединенные Штаты уже не могли дальше повышать производительность, чтобы обеспечивать своих союзников в случае кризиса, да и сами они теперь стали наконец уязвимы. А рост спроса относительно предложения обещал сделать Саудовскую Аравию еще более могущественной. Ее доля в мировом экспорте быстро поднялась с 13 процентов в 1970 году до 21 процента в 1973 году, и этот рост продолжался. В июле 1973 года она ежедневно добывала в среднем 8,4 миллиона баррелей, что было на 62 процента выше, чем в июле 1972 года, когда она производила 5,4 миллиона баррелей в день. И это был, по‑видимому, не предел. Компания „Арамко“ работала на полную мощность; она очень быстро увеличила добычу, стремясь удовлетворить неожиданный скачок спроса, но некоторые утверждали, что как бы вдальнейшем ни развивались события, Саудовской Аравии придется сократить добычу, чтобы предотвратить нарушение качеств нефтеносных участков и способствовать развитию большего числа производственных мощностей.
Помимо этого, в Саудовской Аравии все шире утверждалась точка зрения, что ее доходы больше, чем она может потратить. Две девальвации американского доллара резко обесценили финансовые активы стран с большими долларовыми резервами, в том числе и Саудовской Аравии. Ливия и Кувейт ввели ограничения на добычу. „Какой смысл производить больше нефти и продавать ее за ничем не обеспеченные бумажные деньги? – риторически восклицал министр нефтяной промышленности Кувейта. – Зачем производить нефть, которая для нас и средство к существованию, и сила, и менять ее на сумму денег, ценность которых упадет в следующем году на столько‑то и столько‑то процентов?“ Может быть, рассуждали некоторые саудовцы, нужно существенно сократить производство.
Эта менявшаяся конъюнктура рынка, которая с каждым наступающим днем увеличивала потенциальную силу арабского нефтяного оружия, совпала по времени с развитием значительных политических событий. По многим важным вопросам Фейсал расходился с Насером, в котором видел радикального панарамиста, намеревавшегося сбросить традиционные режимы. Анвар Садат, преемник Насера, был сделан из другого теста. Это был египетский националист, который стремился уничтожить значительную часть наследия Насера. Садат сблизился с саудовцами через Организацию „Исламский конгресс“, и Фейсал симпатизировал ему за попытки вырваться из медвежьих объятий союза, который Насер заключил с СССР. Без поддержки Саудовской Аравии Анвар Садат, возможно, был бы вынужден вновь обратиться к Советскому Союзу, и тогда русские использовали бы каждую возможность распространить свое влияние на весь регион. А это прямо противоречило интересам Саудовской Аравии. Весной 1973 года Садат настойчиво убеждал Фейсала рассмотреть вопрос об использовании нефтяного оружия для поддержки Египта в конфронтации с Израилем и, возможно, с Западом. Король Фейсал ощущал также растущее давление многочисленных группировок внутри страны и всего арабского мира. Он не мог ставить под угрозу свою репутацию открытого сторонника „прифронтовых“ арабских государств и палестинцев, не оказывая поддержки ни тем, ни другим. В противном случае, саудовские предприятия, начиная с нефтяных вышек, рисковали бы стать объектом нападения партизан. В знак такой уязвимости вооруженные боевики весной 1973 года совершили налет на терминал трубопровода „Таплайн“ в Сидоне,* уничтожив одно хранилище и повредив несколько других. А несколько дней спустя был поврежден и сам трубопровод. Был и целый ряд других случаев, в том числе террористический акт, когда был поврежден трубопровод в Саудовской Аравии.
Так политика и экономика как бы сливались в одно целое, меняя точку зрения Фейсала. Саудовцы не делали тайны из своей новой позиции: они предупреждали, что не будут увеличивать добычу, чтобы удовлетворить растущий спрос, и что арабское нефтяное оружие будет так или иначе использовано, если Соединенные Штаты не приблизятся к арабской точке зрения и не откажутся от всесторонней поддержки Израиля. В начале мая 1973 года король встретился с управляющими „Арамко“. Да, он – верный друг Соединенных Штатов, сказал король, но „абсолютно необходимо“, чтобы Соединенные Штаты „что‑то предприняли для изменения того направления, в котором в настоящее время развиваются события на Ближнем Востоке“. [Прим. пер. Современный город Сайда в Ливане.]
„Лишь слегка затронув известную тему о существовании заговора, Фейсал подчеркнул, что сионизм вместе с коммунистами уже готовы покончить с американскими интересами в регионе“, – сообщил после встречи президент „Арамко“. „Он отметил, что в настоящее время, если бы не Саудовская Аравия, американские интересы в регионе были бы сейчас крайне непрочны“. Далее „он сказал, что теперь тем американцам и американским предприятиям, которые являются друзьями арабов и которые имеют интересы в этом регионе, самим решать, предпримут ли они в срочном порядке какие‑то меры, чтобы изменить позицию“ правительства Соединенных Штатов. „Простое отмежевание от политики и действий Израиля сыграет большую роль в преодолении антиамериканских настроений“, – сказал президент „Арамко“, передавая слова Фейсала, и от себя добавил, что в словах короля прозвучала „исключительная настойчивость“.
К облегчению встревоженных директоров „Арамко“, тема нефти на этой встрече не поднималась. Но она возникла во всех деталях спустя несколько недель, когда директора материнских компаний „Арамко“ встретились с Ямани в отеле „Интерконтиненталь“ в Женеве. Не хотели бы они, спросил Ямани, нанести визит вежливости королю, который сейчас отдыхает в Женеве после поездки в Париж и Каир? Директора нефтяных компаний, естественно, с радостью приняли приглашение. Как бы между прочим Ямани заметил, что в Каире у короля были очень „трудные моменты“: Садат оказывал на него сильнейшее давление, требуя более широкой политической поддержки. На встрече с нефтяниками король сказал: „Что касается интересов США на Ближнем Востоке, то их время истекает. Саудовской Аравии грозит опасность изоляции со стороны ее арабских друзей, поскольку правительство США не оказывает ей конструктивной поддержки“. Фейсал был крайне категоричен: он не допустит изоляции. И тогда „вы лишитесь всего“, сказал он директорам.
У них не было сомнений относительно того, что Фейсал имел в виду. „Совершенно очевидно, что концессия находится под угрозой“, – сказал после встречи один из директоров „Арамко“. Программа действий, как она представлялась управляющим, была ясна: „Мы должны, во‑первых, информировать американскую общественность о ее подлинных интересах в регионе (в настоящее время она введена в заблуждение ангажированными средствами массовой информации). Во‑вторых, срочно информировать правительство“.
Через неделю управляющие „Арамко“ были в Вашингтоне. Они посетили Белый дом, госдепартамент и министерство обороны. Суммируя предупреждения Фейсала, они настаивали на том, что „необходимы срочные меры, в противном случае, все будет потеряно“. Их вежливо выслушали, однако, не особенно вникая в суть дела. Проблема, безусловно, существует, признали официальные высокопоставленные лица. Однако, как сообщили представители компаний, они „с определенным недоверием отнеслись к тому, что нависает какая‑либо серьезная опасность, и что, если она и намечается, для ее ликвидации не нужны какие‑либо иные меры помимо тех, которые уже предпринимаются“. Саудовцы, сказали им в Вашингтоне, подвергались ранее гораздо большему давлению со стороны Насера. „Тогда они успешно с этим справились, и должны так же успешно справиться и сейчас“. Во всяком случае, за короткое время Соединенные Штаты вряд ли сумеют что‑то сделать. „Некоторые полагают, что король „кричит „волк“, когда никакого волка на самом деле нет, он существует лишь в его воображении“. А один из высших государственных деятелей высказал мнение, что слова короля на женевской встрече предназначались для „домашнего употребления“. На что один из представителей нефтяного бизнеса резко ответил, что в тот момент никто из его „дома“ на встрече не присутствовал.
Три из входящих в „Арамко“ компании – „Тексако“, „Шеврон“ и „Мобил“ – публично призвали к изменению американской ближневосточной политики. Так же поступил и Говард Пейдж, ушедший в отставку директор „Экссон“ по Ближнему Востоку. После этого король Фейсал внезапно стал очень охотно принимать представителей американской прессы, которая, несмотря на свою „ангажированность“, моментально этим воспользовалась. С коротким интервалом Фейсал дал интервью „Вашингтон пост“, „Крисчен сайенс монитор“, „Нью‑суик“ и телевизионной компании Эн‑Би‑Си. В каждом из них проходила одна и та же мысль. „Мы не стремимся как либо ограничивать экспорт нашей нефти в Соединенные Штаты, – говорил Фейсал американским телезрителям. – Но американская политика всесторонней поддержки сионизма и ее направленность против арабов не только крайне затрудняет продолжение поставок нефти в Соединенные Штаты, но и ставит под вопрос даже сохранение наших дружеских отношений с Соединенными Штатами“.
ЛИДЕРЫ НЕРВНИЧАЮТ
В июне 1973 года в рамках встречи в верхах Никсон принимал в своей калифорнийской резиденции Сан‑Клементе советского генерального секретаря Леонида Брежнева. В последний вечер встречи, когда оба лидера ушли отдыхать, произошло нечто необычное. Возбужденный и долго не засыпавший Брежнев вдруг потребовал незапланированной встречи с президентом. Несмотря на явное нарушение дипломатического протокола, Секретная служба разбудила Никсона. Глубокой ночью, охваченный подозрениями, президент принял Брежнева в небольшом кабинете, за окнами которого простиралась чернота Тихого океана. Брежнев в резкой форме утверждал, что Ближний Восток взрывоопасен, что там может скоро начаться война. Единственный способ предотвратить ее, настаивал он, это проявить новую дипломатическую инициативу. Из слов Брежнева можно было заключить, что Советский Союз знает о намерениях Садата и Асада либо в общих чертах, а, возможно, и в деталях – ведь он поставлял им оружие – и что последствия конфликта поставят под угрозу новую советско‑американскую разрядку. Но Никсон и помощник президента по вопросам национальной безопасности Киссинджер решили, что странный ночной демарш Брежнева является скорее неуклюжим тактическим ходом с целью навязать ближневосточное урегулирование на советских условиях, чем своего рода предупреждением, и не придали ему особого значения.
23 августа 1973 года Садат неожиданно отправился в Эр‑Рияд для встречи с королем Фейсалом. У египетского президента были важные новости. Он сооб щил королю, что обдумывает вопрос о войне против Израиля. Она будет неожиданной, и он хочет заручиться поддержкой и помощью Саудовской Аравии. Са‑дат получил заверения и в том, и в другом. Фейсал якобы пошел настолько далеко, что обещал Садату полмиллиарда долларов на ведение военной кампании. И, заверил король, он не подведет с использованием нефтяного оружия. „Только обратите внимание на время, – как утверждают, добавил король. – Мы не хотели бы использовать нашу нефть в какой‑то краткосрочной войне, которая длится два‑три дня, а затем выдыхается. Это должна быть акция, которая благодаря своей протяженности мобилизует мировое общественное мнение“.
Влияние, которое оказал на Фейсала план Садата, было очевидным. Менее чем через неделю, 27 августа, Ямани сообщил управляющему „Арамко“, что королю внезапно захотелось получить и детальные, и рутинные отчеты о добыче „Арамко“, а также материалы о планах ее расширения и о том, как сказалось сокращение ее добычи на странах‑потребителях, в частности, на Соединенных Штатах. Король даже поинтересовался, каковы будут последствия, если добыча „Арамко“ сократится до 2 миллионов баррелей в день. „Это большая новость, – пояснил Ямани. – Прежде короля никогда не интересовали такие детали“.
В словах Ямани звучало предупреждение. В Соединенных Штатах есть круги во главе с Киссинджером, сказал он, которые „вводят Никсона в заблуждение“ относительно намерений Саудовской Аравии. „В связи с этим король давал интервью и делал публичные заявления, желая устранить любые возможные сомнения“ в их серьезности. „Каждый, кто знаком с нашим режимом и механизмом его работы, понимает, что решение о сокращении добычи принимает только один человек, то есть король. И он принимает это решение, не спрашивая чьего‑либо мнения“. Король, продолжал Ямани, „на все сто процентов настроен добиться перемен в политике Соединенных Штатов и с этой целью использовать нефть. Король также считает себя лично обязанным предпринять некоторые меры и отлично знает, что в настоящее время нефть является эффективным оружием“. Далее Ямани сказал: „Кроме всего прочего, король испытывает постоянное давление со стороны арабского общественного мнения и арабских лидеров, в частности, Садата. Его терпение на исходе“. Ямани добавил еще одну подробность: сейчас король очень часто нервничает.
СЕНТЯБРЬ 1973 ГОДА: „ДАВЛЕНИЕ СО ВСЕХ СТОРОН“
К сентябрю 1973 года разговоры о ненадежности поставок и надвигавшемся энергетическом кризисе велись уже повсюду. Журнал „Миддл‑Ист экономик сервей“ вышел под заголовком „Нефтяная ситуация: давление со всех сторон“. В тот же месяц крупнейшие нефтяные компании и администрация Никсона обсуждали общую проблему: возможность полного закрытия Ливией добычи, которую ведут крупнейшие компании. После продолжительных дебатов администрация приняла решение ввести обязательное распределение некоторых видов нефтяных продуктов, запасы которых на внутреннем рынке были ограничены.
Король Фейсал уже сообщил управляющим нефтяных компаний, что „простое отмежевание“ США от произраильской политики поможет избежать применения нефтяного оружия. И определенные признаки такого отмежевания были теперь налицо. „Хотя наши интересы во многих отношениях параллельны интересам Израиля, – сказал израильскому телевидению помощник госсекретаря США Джозеф Сиско, – они не всегда тождественны. Интересы США выходят за рамки интересов любого другого государства этого региона…У нас, например, растет тревога по поводу энергетического кризиса, и я думаю, что безрассудно полагать, что это не является одним из главных факторов в данной ситуации“. На вопрос, будут ли страны‑производители использовать нефть в качестве политического оружия против Соединенных Штатов в будущем, скажем, в восьмидесятых годах, Сиско сказал: „Мои ясновидческие способности не настолько велики, чтобы предсказать это. Но в арабском мире, безусловно, есть голоса, настаивающие на объединении вопросов нефти и политики“.
Признаки „отмежевания“ от произраильской политики проявились даже и на более высоком уровне. На одной из пресс‑конференций в ответ на вопрос, будут ли арабы „использовать нефть в качестве дубинки, чтобы заставить США изменить свою ближневосточную политику“, Никсон сказал: „Это – предмет нашей главной тревоги“. Такая возможность затронет всех потребителей, в том числе и Соединенные Штаты. „Мы все будем в одной лодке, если это действительно произойдет“. Далее Никсон перешел к обвинениям обеих сторон, включая Израиль, в создавшемся тупиковом положении. „И Израиль, и арабы просто не могут ждать, пока улягутся страсти на Ближнем Востоке. Это – их общая ошибка. Обеим сторонам необходимо приступить к переговорам. Такова наша позиция…Одним из положительных моментов успешных переговоров будет ослабление нефтяного нажима“.
Этот нажим ощущали все главные потребители. В Германии в сентябре боннское правительство наконец обнародовало свою первую программу по энергетике, в которой значительное внимание уделялось надежности поставок. Главным сторонником программы был государственный министр Ульф Лантц‑ке. Он занялся этим вопросом еще в 1968 году, когда на встрече стран‑членов ОЭСР американцы объявили, что их запасные резервные мощности заканчиваются. „Для меня, – позднее говорил Лантцке, – это сыграло роль спускового механизма. С этого момента я стремился перестроить энергетическую политику Германии. Вопрос состоял уже не в том, как решить наши угольные проблемы, а как добиться того, чтобы обеспечение поставок стало одним из приоритетов нашей политики. Это было очень и очень сложно. Мне понадобилось пять лет, чтобы подготовить почву и убедить всех – настолько укоренившимися были убеждения политиков, – что снабжение энергией не представляют собой какой‑либо проблемы“.
В Японии, в тот же тревожный сентябрь, только что созданное в министерстве торговли и промышленности управление ресурсов и энергетики подготовило „Белую книгу“ по энергетике, в которой говорилось о полной ненадежности поставок и подчеркивалась необходимость срочных мер. Это было вызвано тревогой, возникшей год или полтора назад в связи с угрожающим – в смысле независимости и уязвимости страны – ростом японского спроса на нефть. Большую часть нефти Япония получала прямо или косвенно от международных компаний, и в правительстве и в деловых кругах уже видели признаки быстрого перехода власти от компаний к странам‑экспортерам. „Управление системой поставок нефти, до сих пор осуществлявшееся международными компаниями, рушится“, – открыто отмечалось в Белой книге в сентябре 1973 года. И для Японии это означало, что „пассивное отношение стран‑потребителей, характерное для шестидесятых годов, далее было недопустимо“.
К этому времени, в результате изменения ситуации, которая ранее определялась надежным американо‑японским альянсом, во внешней политике Японии появилось новое направление, получившее название „ресурсная дипломатия“. Его задачей было переориентировать японскую внешнюю политику таким образом, чтобы получить гарантированный доступ к нефти. Наиболее известным сторонником его был министр внешней торговли и промышленности Ясухиро Накасонэ (позднее ставший премьер‑министром). Накасонэ считал, что „Япония неизбежно вырвется вперед и пойдет своим собственным, основанным на конкуренции и независимости путем и что эра слепого следования за другими подошла к концу“. Под другими, за кем не надо было далее следовать, разумелись Соединенные Штаты. В июне 1973 года Накасонэ призвал к проведению новой ресурсной политики, „ориентирующейся на страны‑производители нефти“. К тому времени в некоторых кругах Японии страх перед энергетическим кризисом стал уже обычным явлением. Прошедшей зимой Япония испытала нехватку керосина и бензина, и теперь, летом 1973 года, в Японии, как и в Соединенных Штатах, были все признаки сокращения освещенности городов, зданий и дорог. Приезжим, по крайней мере, одному из них, показалось, что каждый японский политик, занимавшийся вопросами энергетики, был знаком со статьей Джеймса Эйкинса „Нефтяной кризис: на этот раз волк уже здесь“ и разделял опасения ее автора. Единственный вопрос был, когда это произойдет. В телевизионном интервью 26 сентября премьер‑министр Какуэй Танака сказал: „Что касается энергетического кризиса, то наступление нефтяного кризиса можно ожидать, по всей вероятности, через десять лет“.
Более вероятным было его наступление через десять дней: в этот самый момент Анвар Садат начал отсчет времени перед началом войны.
КОНЕЦ ПЕРЕГОВОРОВ
На венской конференции в середине сентября 1973 года страны ОПЕК потребовали заключения нового соглашения с нефтяными компаниями. Тегеранское и триполийское соглашения были мертвы. Члены ОПЕК были решительно настроены забрать, как они ее называли, „непредвиденную прибыль“, которую компании получали в результате повышения рыночных цен. И на 8 октября для переговоров с группой во главе с Ямани на конференцию в Вене были приглашены представители нефтяных компаний.
Для ведения переговоров единой группой компаниям предстояло снова заручиться в министерстве юстиции документом о состоянии деловой активности, что гарантировало бы им отсутствие обвинений в нарушении антитрестовских законов. 21 сентября общий юрисконсульт компаний, почтенный Джон Дж. Мак‑Клой запросил от Вашингтона такое разрешение, предприняв предварительно ряд сложных дипломатических согласований не только между компаниями и министерством юстиции, но и между скептически настроенным министерством юстиции и обеспокоенным госдепартаментом. На одномиз бурных обсуждений в министерстве юстиции Мак‑Клой ссылался на опыт бывших руководителей министерства, вплоть до Роберта Кеннеди, которые разрешали компаниям вырабатывать общую стратегическую линию по сложным вопросам внешней политики. „Если министерство не даст такого разрешения, – говорил он, – оно будет нести ответственность за поочередное устранение компаний“. Президент „Экссон“ Кеннет Джеймисон в свою очередь утверждал, что „согласованные действия необходимы для сохранения курса противостояния постоянно меняющейся политике арабского мира“. В ответ юрисконсульты министерства юстиции, ссылаясь на книгу профессора Массачусетского технологического института, – не имевшую непосредственного отношения к данному политическому кризису, – заявили, что причиной повышения цен на нефть были махинации нефтяных монополий, а отнюдь не рыночная конъюнктура и намерение ОПЕК ею воспользоваться. Джеймисон не верил своим ушам. Наконец 5 октября, за три дня до намеченного времени венской конференции антитрестовский комитет министерства предоставил клиентам Мак‑Клоя необходимое разрешение на ведение переговоров единым фронтом.
Хотя прошедшей весной в Вашингтоне наблюдалась некоторая тревога относительно возможности военного конфликта на Ближнем Востоке, летом она рассеялась, и американское разведывательное сообщество в течение нескольких месяцев отвергало какую‑либо вероятность войны. Оно не видело в ней смысла: у израильтян не было причин открывать военные действия, не могли они решиться и на нанесение предупреждающего удара, как в 1967 году. Поскольку считалось, что военное превосходство на стороне израильтян, представлялось иррациональным, что арабы начнут войну, в которой потерпят жестокое поражение. Израильтяне, чье выживание было поставлено на карту, также последовательно отвергали перспективу возможной войны, что в огромной мере оказывало влияние на американскую интерпретацию существовавшего положения.
При таком консенсусе было и одно исключение. В конце сентября Агентство национальной безопасности сообщило, что внезапный рост активности военных средств связи дает основание предполагать, что на Ближнем Востоке может начаться война. Предупреждение было оставлено без внимания. 5 октября Советский Союз внезапно вывез по воздуху семьи дипломатов и служащих из Сирии и Египта. Очевидное значение этого шага было также проигнорировано. В представленной в тот день Белому дому аналитической записке ЦРУ сообщалось: „Происшедшие военные приготовления не указывают, что какая‑либо из сторон намеревается открыть военные действия“. 5 октября в 5.30 вечера Белый дом получил от израильтян самую свежую сводку: „С нашей точки зрения, открытие военных действий против Израиля со стороны двух военных формирований [Египта и Сирии] вряд ли возможно“.
Комитет по надзору, фактически представлявший все разведывательное сообщество, проанализировав ход и возможное развитие событий, сообщил, что война маловероятна.
В тот же день, когда в Вашингтоне еще ярко светило солнце, на Ближнем Востоке уже наступил вечер. В Израиле, в преддверии торжественного и самого священного еврейского праздника Йом‑Киппур, царило спокойствие. В Эр‑Рияде члены саудовской делегации на конференции ОПЕК сели в свой самолет, вылетавший в Вену. На борту самолета они еще раз просматривали свои досье цены на нефть, рост инфляции, прибыли компаний и надбавки за сортность нефти. И только 6 октября, прибыв в Вену, они узнали сенсационную новость: Египет и Сирия внезапно напали на Израиль. В то же утро на восточном побережье США узнали о начале войны на Ближнем Востоке и высшие государственные лица США, и директора нефтяных компаний.
Начало военных действий вызвало среди делегатов ОПЕК в Вене огромное волнение. Прибывшие для переговоров представители нефтяных компаний застали их за оживленной раздачей газетных статей и фотографий. Не могло быть сомнений в том, что видимая победа арабов придает, по крайней мере, арабским членам ОПЕК, силы и уверенность. Нефтяники же, естественно, прибыли в состоянии нервного потрясения. Им пришлось занимать оборонительную позицию не только в вопросе о ценах, но и во все время обсуждения, поскольку в любой момент могло в той или иной форме пойти в ход нефтяное оружие. Министр нефтяной промышленности Ирана отметил, что нефтяники были „в легкой панике“. Уловил он и кое‑что более серьезное: „они теряли свою силу“.
За столом переговоров даже в то время, когда на Ближнем Востоке уже шла война, компании предложили 15‑процентное повышение справочной цены, то есть примерно на 45 центов за баррель. Для экспортеров нефти это было смехотворно. Они хотели повышения на 100 процентов – еще на целых три доллара. Разрыв был настолько гигантским, что ведущая переговоры команда во главе с Джорджем Пирси от „Экссон“ и Андре Бенаром от „Шелл“ не могла дать ответа, не проконсультировавшись со своими президентами в Европе и Соединенных Штатах. Следовало ли им продолжать переговоры? Какое новое предложение цены они могли бы положить на стол переговоров? Когда из Лондона и Нью‑Йорка пришел ответ на ключевой вопрос, он по существу гласил „никаких предложений“, по крайней мере, в настоящий момент. Борьба же за сокращение такой огромной разницы была настолько опасной, что теперь компаниям были необходимы консультации уже с правительствами главных промышленных стран. Как скажется такое повышение на экономике Западного мира? Реально ли переложить его на плечи потребителей? Более того, компании уже подвергались критике за то, что в прошлом слишком легко отступали перед натиском ОПЕК, а сейчас решение носило уже настолько важный, настолько огромный политический характер, что не могло быть принято только ими одними. Итак, штаб‑квартиры корпораций дали указание Пирси и Бенару приостановить переговоры и попросить отсрочки, пока не будут проведены консультации с правительствами стран Запада. Между 9 и 11 октября Соединенные Штаты, Япония и полдесятка правительств стран Западной Европы высказали свое мнение. Оно было практически единогласным: повышение, которого требуют экспортеры, слишком велико, и компании, безусловно, не должны пересматривать свое предложение цены в соответствии с тем, которое может оказаться приемлемым для ОПЕК.
После полуночи, в первые часы 12 октября, шесть дней спустя после начала войны, Пирси и Бенар отправились на встречу с Ямани в его апартаменты в отеле „Интерконтиненталь“. У них нет каких‑либо других предложений на данный момент, объяснили они, они просят две недели отсрочки, чтобы подготовить ответ. Ямани промолчал. Он заказал кока‑колу для Пирси, разрезал лайм и выдавил из него сок в стакан с кока‑колой. Он ждал продолжения разговора. Затем он подал стакан Пирси, но ни Пирси, ни Бенару нечего было предложитьему взамен. „Им это не понравится“, – наконец произнес Ямани. Он позвонил в Багдад, о чем‑то настойчиво говорил по‑арабски, а затем сказал сидевшим у него нефтяникам: „Они возмущены вашим поведением“.
Затем Ямани набрал номер апартаментов делегации Кувейта, члены которой также остановились в „Интерконтинентале“. Вскоре появился министр нефтяной промышленности Кувейта в пижаме. Последовали дальнейшие оживленные разговоры по‑арабски. Ямани начал просматривать расписание самолетов. Обсуждать было больше нечего. В предрассветные утренние часы импровизированные переговоры, зайдя в тупик, закончились. Уходя, Джордж Пирси спросил, каков будет дальнейший ход событий. „Слушайте радио“, – ответил Ямани.
СЮРПРИЗ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ САДАТОМ
Выбор Йом‑Киппура как дня нападения на Израиль был рассчитан на то, чтобы застать евреев врасплох, когда они наименее готовы к отражению атаки. Оборонительная стратегия Израиля целиком опиралась на быструю и полную мобилизацию и развертывание подготовленных резервов. Ни в один из других дней ответная реакция не вызвала бы таких затруднений, как сейчас: страна была погружена в медитацию, самоанализ, переоценку ценностей и молитву. Садат рассчитывал на внезапность и в стратегическом плане и с этой целью приложил немало усилий, чтобы дезориентировать противника. По крайней мере, дважды он предпринимал обманные движения, делая вид, что готовится к войне. Оба раза Израиль ценою огромных расходов и бюджетных потерь объявлял мобилизацию, в сущности напрасную. И этот опыт сделал то, на что и надеялся Садат, породил скептицизм и самоуспокоенность. Начальник израильского генерального штаба даже публично подвергся критике за дорогостоящую и ненужную мобилизацию в мае 1973 года. В отвлекающих маневрах принимал участие и Асад. Террористическая группа, имевшая связи с Сирией, похитила нескольких советских эмигрантов, направлявшихся из Москвы в Вену, и израильский премьер‑министр Голда Меир отправилась в Австрию, чтобы разобраться с кризисной ситуацией, которая отвлекала внимание израильского руководства до 3 октября.
Однако были и вполне реальные признаки готовившегося нападения. Израильтяне не обратили на них внимания, так же, как и американцы. За несколько недель до войны сирийский источник дал Соединенным Штатам поразительно точную информацию, включая боевой порядок сирийских вооруженных сил, но эти разведывательные данные, затерявшиеся среди сотен других информационных сообщений, причем крайне противоречивых, были обнаружены лишь впоследствии. Еще одним зловещим признаком был приказ Асада подготовить на территории Сирии огромные кладбища. 3 октября член Совета национальной безопасности США направил запрос официальному представителю ЦРУ в связи с крупным передвижением египетских сухопутных сил. „Англичане в свою бытность в Египте обычно в это время года проводили осенние маневры, – ответил работник ЦРУ. – Египтяне продолжают следовать этой традиции“. Некоторые американские официальные лица отмечали сообщения о том, что в египетских госпиталях начали срочно освобождать койки, но эти сообщения отбрасывались как еще один не стоивший внимания элемент в египетских воен ных маневрах. 1 октября, а затем повторно 3 октября молодой израильский лейтенант представил своему командиру рапорт о передвижении египетских войск, что указывало на надвигавшуюся войну. Эти рапорты тоже проигнорировали. Израильские военные и, в частности, разведка находились в плену особой „концепции“, согласно которой для начала войны необходимо присутствие определенных предпосылок, а поскольку их не было, нападение египтян исключалось. Все же в первые дни октября главный израильский источник в Египте подал сигнал о грозившей ему опасности. Он был поспешно вывезен в Европу и в срочном порядке опрошен. Сомневаться в том, что он сообщил, не приходилось. Но по непонятным причинам передача его предупреждения в Тель‑Авив задержалась на один день. А потом было уже слишком поздно.
Одной из главных ошибок как американцев, так и израильтян было то, что они не приняли во внимание менталитет Садата, не представили себя на его месте и отнеслись к нему и его выступлениям недостаточно серьезно. Трезвой оценке и интерпретации разведывательных данных помешали глубоко укоренившиеся взгляды и отношения. До октября 1973 года, как позднее признал Киссинджер, он относился к Садату скорее как к актеру, чем государственному деятелю. Игра Садата принесла свои плоды. И вся обрушившаяся громада внезапности произвела на израильтян такое же воздействие, как тридцать два года назад Перл‑Хар‑бор на американцев. Впоследствии израильтяне будут спрашивать себя, как получилось, что их застали врасплох. Ведь все сигналы говорили так определенно. Но эти сигналы было не так легко извлечь из обилия сенсационной и противоречивой информации и намеренной дезинформации, особенно в то время, когда в настроениях преобладали успокоенность и излишняя самоуверенность.
Когда же за девять с половиной часов до нападения израильтяне наконец получили подтверждение о готовящихся военных действиях, они все еще испытывали неуверенность. Это был не 1967 год. Они не могли начать войну первыми, не могли нанести упреждающий удар. К тому же из‑за сыгравшей роковую роль дезинформации, они считали, что война начнется четырьмя часами позднее, чем это произошло в действительности. Они никоим образом не были готовы и в первые несколько дней в полном беспорядке откатывались назад, в то время как египтяне и сирийцы одерживали на всех направлениях крупные победы.
„ТРЕТИЙ ХРАМ РУШИТСЯ“
С началом войны американской задачей номер один стало скорейшее заключение перемирия, согласно которому воюющие стороны отойдут на свои предвоенные позиции, а затем последуют усиленные поиски разрешения конфликта дипломатическим путем. Главным приоритетом Соединенных Штатов было избежать прямого вовлечения в конфликт; они не хотели, хотя это и вряд ли было необходимо из‑за предполагавшегося военного превосходства Израиля, слишком открыто вооружать израильтян против арабов, которым поставлял оружие Советский Союз. Тем не менее они не могли согласиться на поражение Израиля. Наилучшим исходом считали бы, по словам одного высокопоставленного лица, такое положение, при котором „Израиль побеждал, но с разбитым в кровь в ходе войны носом“. Это делало бы его более сговорчивым при переговорах.
Однако неожиданно возник гораздо худший вариант, чем „разбитый в кровь нос“. Он появился в результате второго серьезного просчета Израиля (первым было предположение, что войны вообще не будет). Исходя из опыта шестидневной войны 1967 года, Израиль предполагал, что его военных запасов хватит на три недели войны. Но война 1967 года была гораздо более легкой для Израиля: он был сильнее в военном отношении, и на его стороне было преимущество, которое дает внезапность нападения. Теперь же, после нападения Египта и Сирии, в изобилии экипированных советским оружием, израильтяне сразу были вынуждены обороняться, и военные запасы расходовались быстрее и интенсивнее, чем предполагалось. Этот просчет в обеспечении окажется для Израиля серьезным фактором. Прямым результатом его также станут драматические перемены в нефтяном мире.
В понедельник 8 октября, через два дня после неожиданного нападения, Вашингтон сообщил израильтянам, что они могут вывезти из Соединенных Штатов некоторые виды вооружения на самолете компании „Эль‑Ал“, но без опознавательных знаков. Это, как предполагалось, будет достаточным для поддержки Израиля. Но Израиль все еще не мог опомниться от нападения. Находившийся в полной растерянности министр обороны Израиля Моше Даян сказал премьер‑министру Голде Меир: „Третий Храм рушится“. И Меир лично подготовила секретное письмо Никсону, предупреждая его, что Израиль терпит поражение и вскоре может быть уничтожен. 9 октября Соединенным Штатам стало ясно, что израильские военные силы находятся в тяжелом положении и отчаянно нуждаются в оружии. 10 октября Советский Союз возобновил массированные военные поставки сначала в Сирию, силы которой начали отступать, а затем в Египет. Советский Союз также привел в состояние боевой готовности военно‑десантные войска и начал призывать другие арабские страны вступить в войну. В этот же день Соединенные Штаты приступили к переговорам о возможности полетов большего числа самолетов „Эль‑Ал“ без опознавательных знаков для доставки дополнительных военных грузов в Израиль. Одновременно госдепартамент стал оказывать нажим на американских коммерческих перевозчиков, побуждая их начать чартерные перевозки военного снаряжения в Израиль. Киссинджер считал, что такое решение вопроса будет свидетельствовать об относительно сдержанной позиции США и поможет избежать бесспорной идентификации Соединенных Штатов с Израилем. „Мы сознавали, что необходимо беречь чувство собственного достоинства арабов“, – позднее говорил Киссинджер. Но вскоре стали очевидны огромные масштабы советских военных поставок, и в четверг 11 октября американцам уже было ясно, что без военной помощи Израиль проиграет войну. Согласно формулировке Киссинджера и, в еще большей степени, Никсона, Соединенные Штаты не могли допустить, чтобы их союзник был побежден с помощью советского оружия. Более того, кто мог представить себе последствия сражения до последней капли крови?
В пятницу 12 октября Никсону были отправлены два личных письма. Одно – от президентов четырех входивших в „Арамко“ компаний – „Экссон“, „Мобил“, „Тексако“ и „Стандард оф Калифорния“ было срочно послано через Мак‑Клоя. По мнению президентов, 100‑процентное увеличение справочной цены на нефть, которого требует делегация ОПЕК в Вене, было „неприемлемо“. Но некоторое повышение цены явилось бы оправданным, поскольку „нефтяная промышленность Западного мира сейчас функционирует „с полной нагрузкой“ и не имеет каких‑либо резервных мощностей“. Однако в письме поднимался и более неотложный вопрос, который представители нефтяных компаний хотели довести до сведения президента. Если Соединенные Штаты расширят военную помощь Израилю, то в качестве возмездия возможен „эффект снежной лавины“, что „вызовет серьезнейший кризис поставок нефти“. Помимо этого, в письме было и еще одно предупреждение: „Все позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке значительно ослабевают, и в случае ухода Соединенных Штатов образовавшийся вакуум заполнят интересы японцев, европейцев и русских, что нанесет ущерб нашей экономике и нашей безопасности“.
Вторым письмом было отчаянное послание премьер‑министра Голды Меир. Выживание государства и его народа, писала она, висит на волоске. Это подтвердилось около полуночи в эту же пятницу, когда Киссинджер узнал, что через несколько дней Израиль окажется без боеприпасов. К тому же, как сообщил министр обороны Джеймс Шлесинджер, все усилия наладить коммерческие чартерные рейсы потерпели неудачу. Американские авиакомпании не решались идти на риск либо введения эмбарго, либо грозивших им террористических актов и уж, безусловно, не мечтали посылать свои самолеты в зону военных действий. Если правительство США намеревается использовать их в военных операциях, сказали они, то президент должен объявить в стране чрезвычайное положение. „Для обеспечения поставок, – сказал Шлесинджер, – нам придется обеспечивать воздушный мост по всему маршруту. Другой альтернативы нет. Без воздушного американского моста новых поставок оружия и боевой техники не будет“.
Киссинджер был вынужден согласиться. Он попросил Шлесинджера заручиться обещанием Израиля, что самолеты военно‑воздушных сил США будут приземляться под покровом ночи, быстро разгружаться и до наступления рассвета подниматься в воздух. Если они не будут обнаружены, поставки продолжатся по возможности незаметно. В субботу 13 октября, до наступления рассвета, Шлесинджер получил обещание израильтян, и военно‑транспортное авиационное командование начало переброску боевого снаряжения с военных баз в Роки‑Маунт и на Среднем Западе на аэродром в Делавере. Но для полетов в Израиль американским самолетам была необходима дозаправка. В субботу утром Соединенные Штаты обратились к Португалии с просьбой разрешить посадку на Азорских островах. Для получения такого разрешения потребовалось прямое и решительное вмешательство президента Никсона.
Все же Вашингтон надеялся, что его действия не привлекут внимания. Однако в презумпции секретности не учитывались природные явления. На аэродроме Лажис на Азорских островах дули сильнейшие встречные ветры, и тяжелые транспортные С‑5А, до отказа загруженные военным снаряжением, были задержаны в Делавере. Сила ветра не снижалась до вечера, что означало задержку на полдня. В результате под покровом субботней ночи С‑5А не прилетели в Израиль. Их гул послышался в небе лишь в воскресенье 14 октября, когда они взмыли вверх, выставляя всем на обозрение свои огромные белые звезды. Соединенные Штаты, занимавшие, как считалось ранее, позицию честного посредника, теперь называли активным союзником Израиля. Теперь уже не имело значения, что военная помощь была расширена в противовес огромным советским поставкам арабской стороне, поскольку арабские лидеры, не зная об усиленных попытках американцев незаметно помогать Израилю, предположили, что она должна была стать очевидным и демонстративным признаком поддержки Израиля.
Израильтянам удалось остановить наступление египетских войск до критического прорыва обороны в горах Синая, и 15 октября они предприняли первое успешное контрнаступление. Тем временем в Вене ОПЕК объявила 14 октября о прекращении переговоров с компаниями, но входившие в ОПЕК страны Персидского залива, решив в одностороннем порядке возобновить обсуждение вопроса о ценах, запланировали провести совещание в Эль‑Кувейте. Однако после разрыва переговоров с компаниями большинство делегатов оставались в Вене и теперь оказались в затруднительном положении. Они предпринимали отчаянные усилия заказать билеты на самолет, но авиационные компании прекратили из‑за войны все полеты на Ближний Восток. Казалось, что делегатам вообще не удастся выбраться из Вены, а значит, и запланированная встреча в Кувейте не состоится. Затем наконец выяснилось, что один рейс все же существует. Его выполнял самолет компании „Эйр‑Индия“ через Женеву с промежуточной посадкой в Эль‑Кувейте, и вечером 15 октября все делегации бросились в аэропорт и поспешно заняли места в самолете.
16 октября делегаты стран Персидского залива – пять арабов и один иранец – встретились в Эль‑Кувейте, чтобы продолжить обсуждение с того момента, на котором оно остановилось несколько дней назад в апартаментах Ямани в Вене. Они не намеревались больше ждать ответа компаний. Они приступили к действиям и объявили свое решение: справочная цена будет повышена на 70 процентов, то есть до 5,11 доллара за баррель, что приводило ее в соответствие с ценами на охваченном паникой рынке наличной нефти.
Это действие имело двойной смысл: была поднята цена, и решение было принято в одностороннем порядке. Иллюзия, что экспортеры будут вести переговоры с компаниями, ушла в прошлое. Теперь полная и абсолютная власть над нефтяными ценами перешла к экспортерам. Завершился полный круг в развитии взаимоотношений компаний и стран: дни, когда цены на нефть устанавливали в одностороннем порядке компании – получение экспортерами права вето – установление цен в совместных переговорах и наконец завоевание экспортерами полного права устанавливать цены. Когда решение было принято, Ямани сказал: „Это момент, которого я долго ждал. Теперь он наступил. Мы полные хозяева нашего собственного товара“.
Экспортеры были готовы к жалобам по поводу размера повышения. Они объявили, что правительства стран‑потребителей забирают 66 процентов розничной цены в виде налогов, в то время как на их долю приходится сумма, эквивалентная всего лишь 9 процентам. А иранский министр нефтяной промышленности Джамшид Амузегар заявил, что экспортеры лишь выравнивают цены соответственно действующим на рынке силам, и что в дальнейшем они будут исходить из того, сколько потребители готовы платить. Это было то самое знаменательное решение по ценам от 16 октября, которое имел в виду Ямани, когда сказал представителю „Экссон“ Джорджу Пирси „слушайте радио“. Однако, как показал ход дальнейших событий, Пирси узнал о нем из газет.
Если входящие в ОПЕК экспортеры повысили цены на нефть в одностороннем порядке, то чего же от них ожидать дальше? И что произойдет на этом поле сражения? На следующий день, 17 октября, в Белом доме Никсон говорил сво им главным советникам по национальной безопасности: „Ставки велики: от нефти зависит наше стратегическое положение“. В тот же самый день, на другой стороне планеты, в Эль‑Кувейте это заявление приобрело историческое звучание. Иранский министр нефти покинул совещание, и прибывшие нефтяные министры других арабских стран провели – исключительно среди арабов – закрытое совещание. Предметом его было нефтяное оружие. Оно было у всех на уме. Министр нефтяной промышленности Кувейта объявил: „Сейчас обстановка более благоприятна, чем в 1967 году“.
ЭМБАРГО
Все же открытым еще оставался вопрос о том, что именно предпримет Саудовская Аравия. Несмотря на настойчивость Садата король Фейсал не был склонен предпринимать какие‑либо действия против Соединенных Штатов без дополнительных контактов с Вашингтоном. Он направил Никсону послание, предупреждая, что если американская поддержка Израиля продолжится, саудовско‑амери‑канские отношения станут всего лишь „прохладными“. Это было 16 октября.
17 октября, когда министры нефти совещались в Эль‑Кувейте, сначала Киссинджер, а затем Никсон вместе с Киссинджером приняли четырех арабских министров во главе с саудовцем Омаром Саккафом, которого Киссинджер характеризовал как человека „спокойного и мудрого“. Встреча проходила в обстановке сердечности и, казалось, между ее участниками вырисовываются некоторые общие точки зрения. Никсон обещал прикладывать все силы к заключению перемирия, что позволит „вести работу в рамках резолюции 242“, то есть той резолюции Организации Объединенных Наций, в соответствии с которой Израиль должен вернуться на исходные границы 1967 года. Государственный министр Саудовской Аравии, казалось, подтверждал, что Израиль имеет право на существование, пока будет находиться в границах 1967 года. Киссинджер пояснял, что возобновление американских поставок Израилю не следует воспринимать как действие, направленное против арабов, что это скорее вопрос отношений „между США и СССР“: Соединенные Штаты были вынуждены прореагировать на русские поставки вооружений. Положение, ранее существовавшее в регионе, добавил он, неприемлемо, и, когда война закончится, Соединенные Штаты возьмут на себя активную дипломатическую роль в достижении позитивного мирного урегулирования.
В заключение Никсон обещал Саккафу помощь Генри Киссинджера в качестве посредника, что с точки зрения Никсона было, по‑видимому, безусловной гарантией успеха. Никсон также заверил Саккафа и других министров, что, несмотря на свою национальность, Киссинджер „не был подвержен давлению внутренних, то есть еврейских кругов“. Далее Никсон сказал: „Я понимаю, что вас смущает тот факт, что Киссинджер – американец еврейского происхождения. Американец еврейского происхождения может быть хорошим американцем, и Киссинджер – это хороший американец. Он с удовольствием будет работать с вами“. Киссинджер корчился от смущения и еле сдерживаемой ярости, а Сак‑каф выглядел растерянным. „Мы все в какой‑то степени семиты“, – быстро произнес он. Затем государственный министр направился в розарий Белого дома, где сообщил журналистам, что переговоры прошли в конструктивной и дружеской атмосфере и, как потом сообщила пресса, на них царили сплошные улыбки, любезности и взаимные комплименты. После встречи Киссинджер сообщил своему аппарату, что его удивило отсутствие каких‑либо упоминаний о нефти, и что арабы вряд ли начнут нефтяную войну против Соединенных Штатов.
Однако именно это собравшиеся в Эль‑Кувейте арабские министры намеревались предпринять. В начале 1973 года в одном из своих выступлений Садат, как бы „размышляя вслух“ относительно вариантов в политике Египта, говорил о силе нефтяного оружия. И примерно в то же время по его настоянию эксперты Египта и других арабских стран начали разрабатывать план его применения, учитывая при этом растущий энергетический кризис в Соединенных Штатах. Делегации арабов в Эль‑Кувейте были знакомы, по крайней мере, с его концепцией еще до встречи 17 октября. Но на самом совещании, 17 октября, радикально настроенный Ирак отошел от общепринятого мнения. Глава иракской делегации призвал арабские страны направить всю силу своего возмущения на Соединенные Штаты – национализировать все американские предприятия в арабском мире, отозвать все арабские активы в американских банках и наложить полное эмбарго на экспорт нефти в Соединенные Штаты и другие дружественные Израилю государства. Председательствовавший на встрече алжирский министр отклонил это предложение как нецелесообразное и неприемлемое. Ямани, следуя инструкциям своего короля, также выступил против, назвав это предложение, по сути дела, объявлением США тотальной экономической войны, последствия которой для всех сторон были бы, по меньшей мере, крайне неопределенны. Возмущенная иракская делегация отказалась участвовать в обсуждении всех вопросов по эмбарго и покинула совещание.
Отклонив иракское предложение, арабские министры приняли решение о частичном эмбарго: сократить добычу нефти на 5 процентов от уровня сентября, а затем сокращать на 5 процентов в каждом следующем месяце, пока задачи не будут выполнены. Поставки же нефти „дружественным странам“ было решено сохранить на прежнем уровне. Присутствовавшие девять министров также приняли секретную резолюцию, рекомендовавшую „ввести самые жесткие сокращения для Соединенных Штатов“, имея в виду, что „такое постепенное сокращение добычи приведет к полному прекращению поставок нефти в Соединенные Штаты каждой отдельной страной, участницей этой резолюции“. Несколько стран немедленно заявили, что они начнут с 10‑, а не 5‑процентного сокращения. Но каков бы ни был размер, это было более эффективное средство давления, чем запрет на экспорт в какую либо одну страну, поскольку нефть всегда можно было доставлять из одного места в другое, как это и происходило во время кризисов 1956 и 1967 годов. Сокращение добычи также означало уменьшение абсолютного объема поставок. Это был хорошо продуманный и хитрый план: перспектива ежемесячных сокращений плюс дифференциация стран‑потребителей максимально повысят неопределенность, создадут напряженность и соперничество, как в самих странах‑импортерах, так и между ними. Одной из явных целей этого плана было сразу же вызвать раскол среди промышленных стран.
Два совещания в Эль‑Кувейте – 16 октября и 17 октября – формально не были связаны между собой. Повышение цен и захват странами ОПЕК единоличной власти над их уровнем были логическим продолжением того, что уже давно висело в воздухе. Решение же использовать нефтяное оружие шло своим отдельным путем. „Однако достаточно сказать, – писал в своем комментарии „Миддл‑Ист экономик сервей“, – что новая арабо‑израильская война, по всей вероятности, сделала позицию арабской стороны в переговорах по ценам более жесткой“. А затем журнал делал вывод, который показал, насколько он недооценил развитие дальнейших событий: „к тому же сокращение добычи, вероятно, приведет к дальнейшему повышению цен“.
После совещания в Эль‑Кувейте события развивались стремительно. 18 октября Никсон встретился с членами кабинета. „Когда стало ясно, что война может затянуться и что Советский Союз начал массированное пополнение материальных средств, нам пришлось действовать, чтобы не дать Советам склонить чашу весов в пользу арабов, – сказал он. – В связи с этим в прошлый уик‑энд мы приступили к программе отправки дополнительных военных грузов в Израиль“. Возвращаясь к произошедшим переговорам с Саккафом и другими министрами, Никсон сказал: „Вчера на встрече с арабскими министрами иностранных дел я особо подчеркнул, что мы стоим за прекращение военных действий и мирное урегулирование на основе резолюции №242 ООН. Реакция арабов на дополнительные поставки военного снаряжения Израилю до сих пор является сдержанной, и мы надеемся, что будем продолжать действовать таким образом, чтобы избежать конфронтации с ними“. Он был настроен оптимистично.
На следующий день, 19 октября, Никсон публично объявил о намерении правительства выделить 2,2 миллиарда долларов на военную помощь Израилю. Решение было принято день или два назад и заранее доведено до сведения нескольких арабских стран с тем, чтобы объявление о нем не явилось для них неожиданностью. Решение было продиктовано стремлением, чтобы ни одна из воюющих сторон не оказалась в положении победителя, что дало бы основания и Египту, и Израилю сесть за стол переговоров. В тот же самый день Ливия объявила, что вводит эмбарго на все поставки нефти в Соединенные Штаты.
В субботу 20 октября в два часа ночи Киссинджер вылетел в Москву для обсуждения условий перемирия. Уже в самолете он узнал еще одну ошеломляющую новость: в ответ на продолжение военной помощи Израилю Саудовская Аравия, перешагнув установленный порог сокращения добычи, прекратила все до последнего барреля поставки нефти в Соединенные Штаты. Другие арабские страны уже поступили так же или готовились к этому. Нефтяное оружие теперь полностью вступило в игру, оружие, по словам Киссинджера, „политического шантажа“. Существовавший почти три десятилетия послевоенный нефтяной порядок окончательно ушел в небытие.
Объявление эмбарго явилось практически полной неожиданностью. „Возможность эмбарго даже не приходила мне в голову, – сказал один из управляющих „Арамко“. – Я считал, что если начнется война, и если Соединенные Штаты выступят на стороне Израиля, американские компании в арабских странах будут просто национализированы“. Не особенно задумывались о возможности эмбарго и в правительстве США. Не обратили внимания ни на один из предвестников – дебаты в арабском мире на протяжении почти двух десятилетий на тему „нефтяного оружия“, неудачную попытку применить его в 1967 году, угрозу эмбарго в 1971 году во время тегеранских переговоров, публичное выступление Садата о „нефтяном варианте“ политики в начале 1973 года и чрезвычайную узость нефтяного рынка в 1973 году. Конечно, каков бы ни был характер переговоров Садата с Фейсалом, и каковы бы ни были услышанные Садатом обещания, Фейсал и другие консервативные арабские лидеры не хотели открыто выступать против Соединенных Штатов, страны, от которой зависела их безопасность. Более того, они, возможно, были бы удивлены, даже до некоторой степени шокированы, если бы Соединенные Штаты не обеспечили Израиль оружием и боевой техникой. Изменило ситуацию и привело к сокращению добычи и введению эмбарго не что иное, как исключительно демонстративный характер помощи Израилю: утренний вылет самолетов из Делавера, вызванный встречными ветрами накануне на аэродроме Лажис на Азорских островах, а затем объявление о военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. Прояви они бездействие, считали некоторые арабские лидеры, и определенные режимы могут покачнуться перед натиском разъяренной уличной толпы. С другой стороны, демонстративная поддержка Израиля давала им достаточный повод выступить против Соединенных Штатов, чего некоторые арабские лидеры безусловно хотели.
Начавшиеся в субботу 20 октября потрясшие Америку события не закончились на сообщении о введении нефтяного эмбарго. В воскресенье утром, уже находясь в Москве, Киссинджер узнал о том, что произошло в Вашингтоне накануне. Это событие, получившее известность как „Резня в субботний вечер“, стало критической точкой для президента Никсона. В субботу вечером он принял решение уволить специального следователя по Уотергейтскому делу Арчибальда Кокса, который настаивал на передаче следствию магнитных пленок с записью разговоров президента в Овальном кабинете. Получение этих записей стало центром борьбы между президентом и сенатом, который хотел получить доказательства личного участия Никсона в многочисленных противоправных действиях его администрации. Сразу после увольнения Кокса министр юстиции Эллиот Ричардсон и его заместитель Уильям Ракелсхауз в знак протеста ушли в отставку. „И теперь, – сообщил Киссинджеру по телефону руководитель аппарата Белого дома Александр Хейг, – здесь настоящее светопреставление“.
„МЕЛКАЯ КРАЖА“
Когда на Ближнем Востоке грохотали орудия, а в США наступал нефтяной кризис, главное лицо американской администрации было озабочено совершенно другими вещами. Ричард Никсон оказался главным участником событий, которые, начавшись, по его словам, с „мелкой кражи“, переросли в не имевшую прецедентов серию Уотергейтских скандалов. Ничего даже отдаленно похожего Соединенные Штаты не видели со времени „Типот‑Доум“. Развитие уотергейтской эпопеи во время октябрьской войны, жаркий интерес к ней всей страны, влияние ее на ход войны и введение эмбарго, на умы и чувства американцев, – все это сплеталось в одно целое и придавало странную и сюрреалистическую окраску этой центральной драме, разыгрывавшейся на мировой арене. Так, 9 октября, в тот день, когда Голда Меир в отчаянии сообщила, что готова лететь в Вашингтон и лично просить о помощи, Никсон занимался вопросами отставки вице‑президента Спиро Агню. Агню просил Никсона помочь найти работу в качестве консультанта и, кроме того, жаловался на налоговое управление, которое желает знать, сколько он заплатил за свои галстуки. А 12 октября, когдавысшие американские лица наконец осознали, что Израиль проигрывает войну, и ломали голову, как организовать поставки оружия, они были вызваны в Белый дом для присутствия, как выразился Киссинджер, на „странной и нелепой церемонии“ представления нового вице‑президента Джералда Форда.
В следующие недели, хотя Никсон на время отвлекался от своего личного кризиса и периодически вникал в проблемы кризиса мирового, фактическое руководство американской внешней политикой перешло к Генри Киссинджеру, который, являясь помощником президента по вопросам национальной безопасности, был только что назначен еще и государственным секретарем. До прихода в аппарат Белого дома Киссинджер занимался научно‑исследовательской работой в Гарвардском Центре международных отношений, временно размещавшемся в помещении Гарвардского семитского музея. Помимо этого, он состоял на службе у Нельсона Рокфеллера, самого серьезного соперника Никсона на президентских выборах. Этот ранее читавший лекции университетский профессор, который когда‑то подростком прибыл с родителями в Соединенные Штаты, еврейский беженец из нацистской Германии, амбиции которого в юности не простирались далее должности дипломированного бухгалтера, сейчас волей причудливого и неожиданного стечения обстоятельств, уотергейтского скандала и рухнувшего авторитета президентской власти, стал самим воплощением легитимности американского правительства. Общественный имидж Киссинджера вырос до колоссальных размеров и заполнил вакуум власти, образованный дискредитировавшим себя высшим лицом исполнительной власти. Он стал – для Вашингтона, средств массовой информации, мирового капитала – необходимой политической фигурой, которая олицетворяла авторитет и преемственность в период, когда доверие Америки подвергалось жесточайшим испытаниям.
Это было время слишком большого числа событий. Это привело в замешательство средства массовой информации и общественное мнение. Но Уотергейт и двусмысленное положение президента имели непосредственные и самые серьезные последствия для положения на Ближнем Востоке и в нефтяном бизнесе. Садат вряд ли решился бы начать войну, по крайней мере, имелись основания так утверждать, если бы после выборов 1972 года пришедший к власти сильный президент использовал бы свое влияние, для начала диалога между Египтом и Израилем. Более сосредоточенный на вопросах политики страны президент мог бы также уделить больше внимание проблемам энергетики. Но когда началась война, Никсон был настолько занят собственными проблемами, настолько потерял доверие, что оказался не в состоянии обеспечить сильное президентское руководство, необходимое в отношениях с воюющими сторонами, экспортерами нефти, для противостояния и явной экономической войне против Соединенных Штатов, и русским. Со своей стороны, иностранные лидеры с недоумением отнеслись к этому странному для них Уотергейтскому процессу, бывшему отчасти своего рода ритуалом, отчасти цирком, отчасти триллером, затронувшим всю американскую политику и американскую высшую исполнительную власть.
Уотергейт определил и дальнейший ход развития энергетических проблем на семидесятые годы. В стечении обстоятельств – введении эмбарго и „резни в субботу вечером“, Уотергейта и октябрьской войны, – очевидно, существовала логическая связь. Все они переплелись каким‑то туманным и таинственным образом и надолго оставили глубокие и прочные подозрения, питавшие теории заговоров и не дававшие хода более рациональным ответам на стоявшие перед страной энергетические проблемы. Одни утверждали, что возникновение нефтяного кризиса была тайно спланировано Киссинджером с целью улучшения экономического положения Соединенных Штатов в противовес Европе и Японии. Другие считали, что Никсон намеренно поощрял развязывание войны и фактически способствовал введению эмбарго, чтобы отвлечь внимание от Уотергейта. В общественном сознании нефтяное эмбарго и противозаконные предвыборные вливания некоторых нефтяных компаний – часть противозаконной прибыли, полученной от большого бизнеса Америки комитетом за переизбрание президента – сливались воедино, существенно увеличивая традиционное недоверие к нефтяной промышленности, и заставляя многих считать, что октябрьская война, эмбарго и энергетический кризис были созданы и умело режиссированы нефтяными компаниями ради наживы. Всем этим различным представлениям суждено было гораздо дольше оставаться в памяти, чем октябрьской войне или президентству Никсона.
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
В Эр– Рияде 21 октября, на следующий день после „резни в субботу вечером“, шейх Ямани встретился с президентом „Арамко“ Фрэнком Джангерсом. На основе компьютерных данных по экспорту, которые саудовцы запросили у „Арамко“ несколькими днями ранее, Ямани установил основные параметры сокращения добычи и эмбарго, которые саудовцы намеревались вскоре ввести. Ямани признал, что управление новой системой будет исключительно сложным, но они „надеются, что „Арамко“ будет следить за ним“. „Любое нарушение основных правил, допущенное „Арамко“ при продаже нефти, – добавил он, – будет строго караться“. Покончив с техническими деталями, Ямани задал Джангерсу более отвлеченный вопрос: были ли только что принятые меры неожиданными для него? Нет, ответил Джангерс, „за исключением того, что сокращение добычи оказалось больше, чем мы предполагали“.
Ямани многозначительно спросил, окажется ли „неожиданным для него следующий шаг, если только что принятый не даст результатов“.
„Нет, – ответил Джангерс. – Он не будет для меня неожиданным“.
Анализируя беседы с Ямани и другую имевшуюся у него информацию, Джангерс предполагал, что следующим шагом будет „полная национализация американских интересов, если не разрыв дипломатических отношений“. Об этом говорили заключительные зловещие слова Ямани: „Следующий шаг не будет лишь повторением предыдущего“.
Тем временем в Москве Киссинджер и официальные советские лица завершили подготовку плана перемирия. Но поначалу его осуществление столкнулось с рядом серьезных препятствий. Ни израильтяне, ни египтяне, по‑видимому, его не соблюдали. К тому же возникла угроза того, что 3‑я египетская армия, находившаяся на восточном берегу Суэцкого канала, будет или захвачена в плен, или уничтожена. На имя Никсона поступило резкое, призывавшее к действиям послание Брежнева. Советский Союз не допустит уничтожения 3‑й армии. Если это произойдет, доверие к СССР на Ближнем Востоке будет подорвано. Брежнев требовал, чтобы объединенные американо‑советские войска провели разъединение воюющих сторон. Если Соединенные Штаты откажутся от сотрудничества, Советский Союз проведет эту операцию в одностороннем порядке. „Я должен сказать об этом прямо“, – говорилось в послании. Угроза была воспринята очень серьезно. Было известно, что советские военно‑десантные силы находятся в состоянии боевой готовности, а советские корабли, по‑видимому, начали грозное передвижение в бассейне Средиземного моря. Огромную тревогу вызывал и тот факт, что на советском торговом судне, проходившем через Дарданеллы в Средиземное море, было зафиксировано излучение нейтронов, что могло свидетельствовать о присутствии на борту ядерного оружия. Не направлялось ли оно в Египет?
Глубокой ночью в срочном порядке были созваны на чрезвычайное заседание в Белом доме с полдесятка руководителей американских ведомств, отвечающих за национальную безопасность. По совету Александра Хейга, сказавшего Киссинджеру, что президент „слишком несобран“ и вряд ли сможет к ним присоединиться, Никсона будить не стали. Отсутствие на совещании президента вызвало удивление. С мрачным видом руководители ведомств обсудили послание Брежнева. Прямого советского вмешательства допустить было нельзя: оно могло перевернуть весь международный порядок. Нельзя было также и допустить, чтобы Брежнев решил, что Советский Союз может добиться преимущества над ослабленной Уотергейтом высшей исполнительной властью. Была и еще другая причина для тревоги. Несколько часов назад разведка Соединенных Штатов „потеряла“ советские транспортные самолеты, за которыми следили, когда они доставляли оружие в Египет и Сирию. Где теперь находились эти самолеты, никто не знал. Может быть, они в данный момент возвращались на советские базы, чтобы забрать воздушно‑десантные войска, уже находившиеся в состоянии боевой готовности, и перебросить их на Синайский полуостров?
Официальные лица в зале заседаний Белого дома пришли к выводу, что ситуация резко обострилась. Соединенным Штатам придется решительно ответить на угрозу Брежнева: ответить на силу можно только силой. Боевая готовность американских вооруженных сил была повышена до состояния №3, а в некоторых местах и выше. Это означало, что ранним утром 25 октября в американских вооруженных силах по всему миру была объявлена ядерная боеготовность. Суть этого была ясна – противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза, чего не было со времени кубинского ракетного кризиса. Любой просчет мог привести к ядерной конфронтации. Несколько часов прошли в крайнем напряжении.
Но на другой день боевые действия на Ближнем Востоке прекратились, 3‑я египетская армия получила дополнительное материальное подкрепление, и перемирие вступило в силу. Это произошло как раз вовремя. Супердержавы отменили боевую готовность. А через два дня, впервые за четверть столетия, военные представители Египта и Израиля встретились для прямых переговоров. Тем временем начался диалог между Соединенными Штатами и Египтом – к этому как раз и стремился Садат, задумывая свою игру год назад. Ядерное оружие было зачехлено, но нефтяное оружие арабы продолжали контролировать. Эмбарго на нефть не было снято, и его последствия сказывались еще очень длительное время после октябрьской войны.
ГЛАВА 30. НАША ЖИЗНЬ ВЫСТАВЛЕНА НА ТОРГИ
«Эмбарго возвестило эру новых отношений в мире нефти. Как война была явлением слишком важным, чтобы отдавать ее на откуп генералам, так и решение нефтяных проблем, которые приобрели теперь такое колоссальное значение, не следовало предоставлять нефтяной отрасли. Нефть уже стала территорией президентов и премьеров, министров иностранных дел, финансов и энергетики, конгрессменов и парламентариев, регулировщиков и „царей“, активистов и ученых мужей и в особенности Генри Киссинджера, который с гордостью заявлял, что до 1973 года мало смыслил в нефти и крайне мало в мировой экономике. Он предпочитал политику и большую стратегию. В первые месяцы введения эмбарго он неоднократно говорил своим помощникам: „Не докладывайте мне о баррелях нефти – для меня это как бутылки кока‑колы. Я этого не понимаю!“ Тем не менее, как только в игру вступило нефтяное оружие, этот акробат от дипломатии делал больше, чем кто‑либо другой, чтобы этот меч вложили обратно в ножны.
„ПОТЕРИ“
В том, что называлось „арабским нефтяным эмбарго“, было два элемента. Один, более широкий, заключался в растущем ограничении добычи – первоначальное сокращение и дополнительное на 5 процентов каждый месяц – и повлиял на весь мировой рынок. Другим был полный запрет на экспорт нефти, который в начале касался только Соединенных Штатов и Нидерландов, однако в дальнейшем был распространен на Португалию, Южную Африку и Родезию. Затем в результате какого‑то странного стечения обстоятельств эмбарго было введено для американских военных баз в восточном полушарии, включая 6‑й флот, в чьи задачи входила защита некоторых стран, которые вводили эмбарго. Нефтяные компании, возможно, считали, что „не моргнув глазом“ перенесут это сокращение, поставив нефть из других источников. Однако так не считали в Пентагоне, где в самый разгар военного кризиса, в который могли быть вовлечены американские вооруженные силы, оно вызвало ярость. Не считали так и в конгрессе, где срочно была принята поправка, согласно которой дискриминация министерства обороны рассматривалась как преступный акт. Тем временем поставки американским вооруженным силам были возобновлены.
В начале ноября 1973 года, всего через две недели после решения применить нефтяное оружие, арабские министры решили увеличить общий объем сокращения нефтедобычи. Но каков был в действительности объем недополученной нефти? В первой половине октября суммарный объем арабских поставок составлял 20,8 миллиона баррелей в день. В декабре, в наиболее острый период эмбарго ‑15,8 миллиона баррелей в день. Таким образом, суммарная потеря на рынках составляла около 5 миллиона баррелей. Однако теперь в Соединенных Штатах не было запасных резервных мощностей. Это обусловило важнейшие изменения и в политике, и в области нефти по сравнению с таким недалеким прошлым. Всего шесть лет назад, во время шестидневной войны 1967 года резервные запасные мощности Америки были единственным и самым главным фактором, позволявшим обеспечивать запас надежности энергоснабжения стран Запада, как и при каждом послевоенном энергетическом кризисе, как и во время Второй мировой войны. Теперь такого запаса надежности не было: Соединенные Штаты утратили эту важнейшую возможность влиять на мировой нефтяной рынок. Другие производители во главе с Ираном могли повысить добычу в целом до 600000 баррелей в день. Ирак, выступивший с предложением тотальной экономической войны против Соединенных Штатов, – которое отвергли другие арабские производители, – не только хмурился, он, как это ни странно, увеличил добычу и таким образом доход. Стремясь объяснить политику своей страны, Саддам Хусейн обрушился на правительства Саудовской Аравии и Кувейта, заявив, что те представляют „реакционные правящие круги, хорошо известные своими связями с Америкой и американскими монополистическими интересами“, и осудил сокращение поставок европейцам и японцам, указав, что это может снова бросить их в объятия ненавистных американцев.
С учетом роста нефтедобычи в других регионах чистые потери в декабре составляли 4,4 миллиона баррелей в день или примерно 9 процентов от 5 миллионов баррелей в день, которые получали страны Запада два месяца назад – не особенно, на первый взгляд, большая потеря в пропорциональном отношении. Но на мировом рынке продаж она составляла 14 процентов, а из‑за быстрого роста темпов мирового потребления – 7,5 процента в год – была еще более ощутимой.
Тем не менее сведения о масштабах потерь и их размерах были получены только после того, как факт свершился. Информация о наличной нефти была крайне неопределенной и сопровождалась тенденцией преувеличивать размеры потерь. Противоречивый и фрагментарный характер информации и общее изменение привычных каналов поставок породили растерянность, усиливавшуюся бурными всплесками эмоций. Отсутствие ответов на вопросы усугубляло страх и сумятицу. Будут ли сокращения повторяться и в дальнейшем каждый месяц? Будет ли введено эмбарго еще в каких‑либо странах? Не перейдут ли страны, ранее считавшиеся „нейтральными“, в разряд „предпочтительных“ или даже „с наибольшим благоприятствованием“, имея в виду, что арабы вознаградят их за хорошее поведение и дадут им больше нефти? Не будут ли другие страны наказаны более сурово?
Была и еще одна причина такой неопределенности. В конечном счете, экспортеры нефти руководствовались шкалой своих доходов. В 1967 году, обнаружив, что их общие доходы сократились, они сняли эмбарго. Усвоив этот урок, король Фейсал не был склонен, по крайней мере, в течение 1972 года обращаться к нефтяному оружию. Но теперь, при взлетевшей цене за баррель нефти, экспортеры могли, сокращая объем добычи, тем не менее увеличивать доходы. Более высокие цены не только компенсировали потери от сокращения, но и увеличивали доход. Следовательно, можно еще сократить нефтедобычу и не вспоминать о поставках на рынок недостававшего числа баррелей. Это означало бы хронический дефицит нефти, постоянный страх – и еще большее повышение цен.
ПАНИКА У БЕНЗОКОЛОНОК
Что могло более способствовать лихорадочному повышению цен, чем ситуация с поставками нефти в памятные последние месяцы 1973 года? Составляющими ситуации были война и насилие, сокращение поставок, размеры эмбарго, отчаяние потребителей, призрак дальнейшего сокращения нефтедобычи и, наконец, вероятность того, что арабы не вернутся к прежнему уровню добычи. Страх и неопределенность проникали всюду, – они как бы сами себя порождали. И нефтяные компании, и потребители отчаянно искали возможность получить дополнительный объем нефти не только для удовлетворения существовавшего спроса, но и для создания запасов, стремясь обезопасить себя и от возможного роста дефицита, и от неизвестности будущего. Лихорадочные закупки означали дополнительный спрос на рынке. Действительно, все стремились заполучить любую нефть, которая попадалась под руку. „Предметом торгов была не столько нефть, – сказал один независимый переработчик, не имевший надежного источника поставок, – на торги была выставлена наша жизнь“.
На торгах росли цены. Объявленная цена на иранскую нефть, по договору от 16 октября, составляла 5,4 доллара за баррель. В ноябре некоторое количество нигерийской нефти было продано более чем по 16 долларов за баррель. В середине декабря Иран для проверки состояния рынка провел широкий аукцион. Предложения были неслыханными – свыше 17 долларов за баррель, 600 процентов сверх цены до 16 октября. Затем на кишевшем слухами, искусно проведенном нигерийском аукционе одна японская торговая компания, не имевшая опыта закупок и конкурировавшая примерно с 80 другими компаниями, предложила 22,6 доллара за баррель. Как стало потом известно, она не смогла найти покупателя по такой цене, и сделка по покупке с последующей продажей не состоялась, но в то время никто не мог предвидеть этого. Было известно и о предложениях еще более высокой цены.
Вызванный эмбарго и его последствиями шок захватил и всю социальную структуру промышленных стран. Пессимистичные прогнозы в исследованиях Римского клуба, по всей видимости, были обоснованы. Э. Шумахер оказался в конечном счете пророком. Его тревоги относительно колоссального роста спроса на нефть и грядущей зависимости от Ближнего Востока получили подтверждение. Своевременная публикация в 1973 году книги „Мало – это красиво“ сделала его после десятилетий безвестности своего рода выразителем идей тех, кто выступал против безудержного роста и необузданной концепции „Больше – значит лучше“, доминировавшей в пятидесятые и шестидесятые годы. Теперь, на склоне лет, этот ученый, бывший защитником угля и выступавший по вопросам энергетики в роли Кассандры, стал героем своего времени. Заглавие его книги и его интерпретация – „меньше значит больше“ – стали лозунгами движения в защиту окружающей среды, которое начало бурно развиваться после введения эмбарго, а сам Шумахер стал знаменитостью. Королева Елизавета наградила его орденом Британской империи 2‑й степени и пригласила на ленч в Букингемский дворец, а принц Филипп устроил в его честь званый обед. „Праздник кончился, – объявил всему миру Шумахер. А затем добавил: – Но чей же это был праздник, в конце концов?!“
Век дефицита был не за горами. Перспективы в лучшем случае не обещали ничего хорошего: потеря темпов экономического роста, спад деловой активности и инфляция. Мировой денежной системе грозили серьезные потрясения. Большинству промышленных стран, безусловно, предстоял значительный шаг назад, и были веские основания мрачно раздумывать о политических последствиях потери устойчивого экономического роста в индустриальных демократиях, обеспечивавшего в послевоенные годы социальную сплоченность. Не приведут ли затянувшиеся экономические проблемы к вспышке внутреннего конфликта? Более того, Соединенные Штаты, ведущая мировая супердержава и гарант мирового порядка, были поставлены в положение обороняющейся стороны и унижены горсткой небольших государств. Не приведет ли это к распаду мировой системы? И не будет ли упадок Запада означать неминуемый рост массовых беспорядков в мире? Что касается рядовых американцев, у них тревогу начали вызывать более высокие цены, состояние кошельков и нарушение привычного образа жизни. Они боялись, что наступает конец целой эры.
Влияние эмбарго на психологию европейцев и японцев было огромным. Нарушение поставок мгновенно вернуло их к тяжелым послевоенным годам лишений и дефицита. Экономические достижения пятидесятых и шестидесятых годов внезапно показались весьма сомнительными и шаткими. В Западной Германии министерство экономики занялось распределением и почти сразу же оказалось погребенным под грудой телексов от находившихся в отчаянном положении предприятий промышленности. Первым был телекс из сахарной промышленности, со свеклоперерабатывающего завода, где в разгаре был сезон переработки. При отсутствии топлива в течение всего двадцати четырех часов, говорилось в телексе, остановится весь технологический процесс, и в трубах произойдет кристаллизация сахара. Угроза выхода из строя этой отрасли и не поступление на рынок ее продукции была в Германии настолько велика, что сахарорафинадным заводам был срочно выделен необходимый объем мазута.
В Японии введение эмбарго вызвало еще более острую реакцию. Доверие, обусловленное высоким экономическим ростом, внезапно исчезло, и весь комплекс прежних страхов по поводу уязвимости страны мгновенно вернулся обратно. Означало ли это, спрашивали себя японцы, что, несмотря на все их усилия, они снова будут бедны? Страхи, вызванные эмбарго, породили панический спрос на целый ряд товаров, что напоминало страшные „рисовые бунты“, пошатнувшие положение нескольких правительств Японии на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. Водители такси вышли на демонстрации протеста, а домохозяйки бросились в магазины скупать стиральные порошки и туалетную бумагу, создавая запасы, которых в некоторых случаях хватило бы не менее чемна два года. И если бы не государственное регулирование, цены на туалетную бумагу повысились бы в четыре раза, как это произошло с нефтью. Таким образом, дефицит нефти сопровождался нехваткой туалетной бумаги.
В Соединенных Штатах низкий уровень поставок ударил по вере в бесконечное изобилие природных ресурсов, – убеждению, настолько прочно укоренившемуся в американском сознании и повседневной жизни, что вплоть до октября 1973 года огромное большинство населения даже понятия не имели о том, что страна вообще импортирует нефть. Между тем в результате неумолимого хода событий на глазах американских владельцев машин розничные цены на бензин подскочили на 40 процентов – по причинам им непонятным. Повышение цены ни на один другой товар не дало бы такого заметного, мгновенного и эмоционального результата. Автомобилистам приходилось не только „отстегивать“ больше денег, чтобы наполнить бак, но и отыскивать бензоколонки, где цена одного галлона бензина повышалась не чаще одного раза в день. Однако нехватка бензина стала еще более очевидной с введением „лимита на одну заправку“, названных так Джоном Сохиллом из федеральной комиссии по энергетике, но более известным как „очереди за бензином“.
Очереди за бензином стали самым заметным следствием эмбарго и самым непосредственным образом сказались на жизни Америки. Накануне введения эмбарго в Соединенных Штатах из‑за узости рынка была введена система равномерного распределения поставок по стране. Теперь она приобрела уродливую форму: не допускала перераспределения, то есть переброски бензина из тех мест, где он имелся в достаточном количестве, туда, где его не хватало. С распространением противоречивых сообщений и слухов американцы стали жертвами начавшейся на рынке товаров паники, – только теперь это был не стиральный порошок или туалетная бумага, а бензин. Водители, которые ранее заправлялись, лишь когда стрелка счетчика расходования бензина практически вставала на отметку „пусто“, теперь стремились постоянно пополнять бак, даже в тех случаях, когда заправлялись лишь на доллар, тем более увеличивая очереди. Это было разумно: ведь завтра бензина вообще могло не быть. На некоторых бензоколонках заправка производилась по определенным дням недели в зависимости от того, оканчивается ли номер машины на четное или нечетное число. Раздраженные водители ожидали по нескольку часов в очереди, не выключая мотора, и порой расходовали больше бензина, чем им удавалось купить. Во многих регионах страны на бензоколонках появились объявления „Извините, сегодня бензина нет“ – так не похожие на те, которые зазывали покупателей, обещая скидки, и которые были такими привычными в прошедшее десятилетие избытка. Эмбарго и вызванный им дефицит обозначили резкий и внезапный отход от прошлого, и этот новый опыт коренным образом подрывал уверенность американцев в будущем.
„ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ“
Ричард Никсон стремился восстановить уверенность. В начале ноября на совещании кабинета по вопросам энергетики один из министров предложил выключать освещение административных зданий. „Но тогда придется увеличить число полицейских“, – заметил практичный, выступавший за строгие меры в борьбе с преступностью и беспорядками президент. У него были гораздо более серьезные и далеко идущие соображения. 7 ноября 1973 года Никсон обратился к встревоженной и напуганной нации с президентским посланием. Он предлагал широкий круг мер: понизить температуру в жилых помещениях и организовать автомобильные пулы. Он, со своей стороны, постарается ослабить экологические нормы, приостановит переход коммунальных служб с угля на нефть и учредит управление энергетических исследований и разработок. Он также призвал к проведению нового грандиозного мероприятия – программы „Независимость“. „Давайте установим нашу общенациональную цель, – сказал он, – в духе программы „Аполлон“, но с решимостью „Манхэттенского проекта“, чтобы к концу этого десятилетия у нас был создан потенциал для обеспечения наших энергетических потребностей и достигнута полная независимость от какого‑либо иностранного источника энергии“. Назвать такой план амбициозным было бы преуменьшением: он требовал развития многочисленных новых технологий, огромных денежных вложений и резкого отхода от новой программы сохранения окружающей среды. Сотрудники аппарата предупреждали Никсона, что добиться независимости в энергетике к 1980 году нереально и, следовательно, провозглашать ее было бы неразумно. Никсон решительно отклонил все возражения, – энергетика сейчас неразрывно связана и с проблемами кризиса, и с высокой политикой.
Он уволил своего главного советника по энергетике Джона Лава, пришедшего в аппарат еще задолго до введения эмбарго, и заменил его заместителем министра финансов Уильямом Саймоном. Сообщая кабинету о новом назначении, Никсон сравнил этот пост с постом Альберта Шпеера, занимавшегося вооружениями в „третьем рейхе“. Если бы Шпееру не была дана полная власть в борьбе с немецкой бюрократией, пояснил Никсон, победа над Германией была бы одержана намного скорее. У Саймона это сравнение вызвало замешательство. Далее Никсон сказал, что Саймону будет предоставлена „абсолютная власть“. Но было ясно, что такой власти в вашингтонских коридорах, где шли постоянные споры между фракциями, Саймон получить не мог. Новый „хозяин“ энергетики оказался вовлеченным в бесконечные слушания в комиссиях и подкомиссиях конгресса, которые, по‑видимому, не прекращались ни днем, ни ночью. Однажды, торопясь с одного совещания на другое, Саймон быстро пятился к машине, на ходу заканчивая беседу с двумя вице‑губернаторами. Садясь в машину, он ударился головой, порезав кожу. Хотя Саймону надо было ехать в больницу, чтобы ему наложили швы, председатель комиссии не отменил слушания, и „хозяин“ энергетики просидел пять часов с сочившейся из раны кровью, отвечая на вопросы. Атмосфера этих месяцев была настолько накалена, что жена Саймона не рисковала пользоваться кредитными карточками, где стояла фамилия ее мужа.
Громкие требования ввести распределение бензина по карточкам вызывали стойкое сопротивление администрации. Когда же шум в связи с этим еще усилился, Никсон приказал напечатать и держать наготове марки, дававшие право на покупку бензина. „Может быть, это заставит их заткнуться“, – сказал он. Хотя его администрация продолжала разрабатывать программы и направления политики выхода из кризиса, сам Никсон не торопился с принятием антикризисных мер. Один из его помощников, Рой Эш, подготовил памятную записку срекомендацией соблюдать крайнюю осторожность. „Я убежден, что мы не должны допустить, чтобы давление в течение следующих одного‑двух месяцев, основанное на реальной и непосредственной нехватке, которое серьезно осложняется тенденциозностью и истерией прессы, привело к ненужной и даже контрпродуктивной энергетической политике, – писал Эш. – Я уверен, что через несколько месяцев мы будем относиться к энергетическому кризису примерно так же, как сегодня относимся к ценам на говядину – к этой долговременной и рутинной проблеме, стоящей перед правительством, – а не как к какому‑то кризису президентской власти“. На этой записке Никсон сделал от руки две пометки: „абсолютно правильно“ и „имеет огромный смысл“. Но для рядовых американцев события, происшедшие с ценами на бензин, были неизмеримо значительнее установления цен на говядину. Речь шла о соблюдении их неотъемлемых прав, которые, по‑видимому, находились в опасности.
Так кто же был виноват? Многие считали, что ответственность за эмбарго, дефицит нефти и повышение цен несет нефтяная отрасль. Следующим после нефтяных компаний главным объектом негодования была администрация Никсона. В начале декабря обозреватель по вопросам общественного мнения Дэниел Ян‑келович направил генералу Александру Хейгу для передачи Никсону меморандум „о признаках паники“ среди населения, который подготовил по просьбе министра финансов Джорджа Шульца. У людей „растут опасения, что энергоресурсы страны подошли к концу, – писал Янкелович. – Под влиянием ряда обстоятельств в широких слоях населения сформировались тревожные настроения, усугубляемые дезинформацией, недоверием, смятением и страхом“. Под „рядом обстоятельств“ разумелись Уотергейт, недоверие к нефтяной отрасли (которая, как считалось, пользуется нехваткой бензина в качестве предлога для баснословного повышения цен), общее снижение доверия к деловой активности и убеждение, что администрация Никсона слишком тесно связана с большим бизнесом. Уотергейт, продолжал Янкелович, „повсеместно породил чувство подавленности из‑за того положения, в котором находится страна“, и как прямой результат этого уверенность в том, что „в стране все обстоит благополучно“ упала в 1973 году с 62 процентов в мае до ничтожных 27 процентов в конце ноября.
Совершенно очевидно, что в условиях Уотергейта ослабевшая администрация должна была предпринять какие‑то позитивные меры. Однако при всех ее усилиях уотергейтский скандал шел за ней буквально по пятам и постоянно отвлекал внимание не только общественности, но и высших политических деятелей. „Уотергейт породил ощущение беспомощности, – вспоминал Стивен Бо‑суорт, руководитель отдела топлива и энергетики в госдепартаменте. – Конгресс был словно загипнотизирован Уотергейтом, исполнительная ветвь власти завязла в нем, как в болоте, а Белый дом оправдывался и искал виновных на стороне. Принять какое‑либо политическое решение на межведомственном уровне было сложно. В Вашингтоне не существовало реального инструмента для принятия решений – кроме Генри Киссинджера“.
Сам Киссинджер называл Уотергейт „многоголовым чудовищем“, и, по‑видимому, был единственным, кто мог с ним справиться. Он стремился не допустить влияния Уотергейта на внешнюю политику, в том числе и на вопросы нефти, но внутренней политике по энергетике в этом плане не везло. Об этом свидетельствовало и утверждение одного официального представителя Белого дома в разговоре с Хейгом в ноябре 1973 года по поводу запланированного сообщения о действиях администрации. „Мне абсолютно понятно желание получить в понедельник широкую прессу и таким образом похоронить вопрос о затребованных Сирикой пленках, – сказал представитель Белого дома, имея в виду передачу федеральному судье магнитных пленок с записями разговоров Никсона в Овальном кабинете. – Однако мы обольщаемся. Ни одно действие не похоронит этот вопрос“. Несколько недель спустя советник Белого дома Рой Эш в связи с этим заметил, что никакие меры, предпринимаемые президентом по энергетике – в какой бы день о них ни было сообщено – не получат положительного освещения в прессе. „По‑видимому, ничто не может победить Уотергейт“, – добавил он. Окружению Никсона казалось, что президент постоянно находится в поиске какого‑то политического „бьющего на эффект спектакля“ на тему нефти и Ближнего Востока, который бы отвлек страну от Уотергейта и каждого нового факта, открывавшегося в этом скандале. Если это и было частью стратегии Никсона, то он потерпел поражение.
ВСЕ ОДИНАКОВО БЕДНЫ
Как в такой обстановке всеобщей тревоги, возмущения и подозрений распределять сократившийся объем нефти между странами? И кто должен был этим заниматься – правительства или компании? Для американских компаний, в частности партнеров по „Арамко“, главной проблемой был арабо‑израильский конфликт. Если бы Соединенные Штаты отказались от поддержки Израиля или хотя бы существенно сократили помощь ему, тогда бы все вернулось на прежние места. Но при существовавшем положении израильтяне были непреклонны, арабы же нет. У европейских компаний была иная проблема: и без того напряженный баланс спроса и предложения стал нестабильным и ненадежным. Промышленный мир оказался в слишком большой зависимости от одного взрывоопасного региона. Реальным выходом из положения было бы замедлить рост спроса и принять на уровне правительств некоторые меры по повышению надежности энергоснабжения. „Ройял Датч/ Шелл“ направила главам правительств конфиденциальную „Розовую книгу“, в которой предупреждалось, что ситуация с поставками нефти вышла из‑под контроля и что возможна „схватка за нефть“. В отличие от американских компаний „Шелл“ выступала за заключение межправительственного соглашения по распределению поставок при любом кризисе, и ее группа планирования вела разработку такой системы.
До октября 1973 года среди правительств проводилось обсуждение плана распределения, подобного действовавшему в 1956 и 1967 годы. Однако каждое правительство настаивало на принятии системы, которая отвечала бы его собственным нуждам и положению. Более того, до наступления кризиса связанные с таким планом вопросы были слишком многогранны, разногласия по ставкам и риску – велики, а стимулы – недостаточны, и к тому же координация слишком бы противоречила характеру американской политики. Таким образом, никакой подготовки проведено не было. В июне 1973 года промышленные страны согласились создать „неофициальную рабочую группу для разработки и оценки различных мнений“. И это было все, чего они достигли перед наступлением кризиса.
В разгар кризиса – при всей его непредсказуемости, нестабильных американо‑европейских отношениях и расчетливом намерении арабов расколоть лагерь западных союзников – ни один такой механизм не мог быть быстро создан. Соглашение по распределению в случае чрезвычайной ситуации между странами‑членами Европейского экономического сообщества все же существовало, но ни разу не было реализовано. В конце концов, ведь главной мишенью сокращения нефтедобычи были Соединенные Штаты. Более того, разделив европейские страны на разные категории – от подлежащих введению полного эмбарго до стран с „наибольшим благоприятствованием“ – арабские экспортеры сумели парализовать способность европейцев объединиться и реализовать какое‑либо соглашение по распределению.
Правительство США могло бы применить закон от 1950 года об оборонном производстве, который предусматривал снятие антимонопольных ограничений, чтобы компании могли объединить силы во время кризиса. Этот закон был в той или иной степени применен во время кризисов, вызванных корейской войной и национализацией, проведенной Ираном в 1951 – 1953 годах. Однако на этот раз его применение лишь подлило бы масла в огонь, затруднив нефтяным компаниям возможность осторожно маневрировать во время кризиса и усугубив конфликты и с арабами, и с западными союзниками. Более того, его применение в разгар Уотергейтского скандала породило бы подозрения и громкие обвинения в тайном сговоре между администрацией и нефтяными компаниями. Положение Никсона было отнюдь не таково, чтобы он, ссылаясь на национальные интересы, мог вызвать доверие.
Таким образом, оставалась лишь одна возможность справиться с кризисом, – отдать его на откуп самим компаниям, по преимуществу крупным. Они гордились своей буферной ролью между странами, потребителями и производителями, являясь своего рода „тонкой увлажняющей пленкой“, как выразился представитель „Шелл“ Дэвид Барран. Но теперь они почувствовали, насколько болезненно шершавой стала эта роль в период острого напряжения. Нефтяная смазка была внезапно удалена.
С одной стороны, существовало усиленное, убийственно серьезное давление арабских правительств. Угроза была явной: потеря всех позиций на Ближнем Востоке. Когда саудовцы ввели 18 октября первое 10‑процентное сокращение нефтедобычи, „Арамко“ немедленно подчинилась и сократила поставки даже сверх того, что требовалось. Здесь раскрывалась странная и неприглядная картина. Американская компания – самая ценная жемчужина, по мнению некоторых, во всех американских инвестициях за границей – фактически проводила политику эмбарго, направленную против Соединенных Штатов. Но был ли у нее выбор? Разве не лучше было пойти на сотрудничество и давать мировому рынку по возможности больше нефти, чем быть национализированной и выброшенной из ближневосточного региона? „Альтернативой было вообще не отправлять нефть, – говорил впоследствии представитель „Шеврон“ и один из директоров „Арамко“ Джордж Келлер. – Тот факт, что мы не перекрыли снабжение и направляли ежедневно 5‑7 миллионов баррелей нашим друзьям по всему миру, безусловно, отвечал интересам Соединенных Штатов“.
С другой стороны, существовали правительства‑потребители, и все они хотели получить нефть, она была им чрезвычайно нужна. Наиболее могущественным из них оказалось правительство Соединенных Штатов, не только родноеправительство пяти из семи ведущих компаний, но и главный объект всей операции с эмбарго. Компании понимали, что любое их действие подвергнется дома пристальнейшему анализу и последующей оценке. Они не хотели ни терять рынки, ни оказаться отрезанными от нефти, и уж, конечно, не хотели навлечь на себя преследования и возмездие потребителей и своего правительства.
При такой ситуации единственным логическим решением было принять принцип „равного дефицита“ и „равного дискомфорта“. Это означало, что компании будут распределять процент сокращений общих поставок поровну между всеми странами, транспортируя арабскую и неарабскую нефть во все регионы. У них уже был некоторый опыт в организации системы распределения, приобретенный во время эмбарго, которое сопровождало войну 1967 года, только в 1973 году масштабы и риск неизмеримо возросли. В качестве основы для определения пропорциональной доли сокращений компании брали либо фактическое потребление в первые девять месяцев 1973 года, либо прогнозы на ближайший период. Принцип равного дефицита „был единственным оправданным курсом при отказе правительств пойти на коллективное принятие какой‑либо альтернативной системы“, – сказал один из директоров „Шелл“. А для компаний, добавил он, „по всей вероятности, единственный путь избежать ликвидации“ – все остальное было бы равно самоубийству. В пользу принципа равного дефицита говорил и еще один фактор – существование в рамках международных нефтяных компаний „внутреннего рынка“.
Хотя у компаний был солидный опыт жонглирования поставками в обычных обстоятельствах, теперь им приходилось отчаянно искать новые пути и заниматься импровизацией. „Это было страшным мучением, – вспоминал директор по поставкам в компании „Галф“. – Мы работали круглые сутки. Все ночи напролет в офисе находились группы сотрудников, продолжавшие заниматься распределением по странам, расчетами, планами, ответами на призывы о помощи. Нам приходилось производить сокращения по всем нашим международным обязательствам: мы ввели распределение по всему миру. Это означало сокращение поставок для наших собственных нефтеперерабатывающих предприятий так же как, и для наших клиентов. Мне приходилось сражаться за обслуживание наших клиентов и в третьих странах. „Галф“ и другие компании ежедневно бомбардировались просьбами и требованиями. „Почему вы продаете корейцам и японцам, а не направляете нефть в Соединенные Штаты? Вы же – американская компания“. Мы ежедневно подвергались атакам прессы. Требования поставить хоть еще одну партию для того или иного американского нефтеперерабатывающего предприятия возникали постоянно. Мне приходилось напоминать правлению, что мы продали наши долгосрочные контракты клиентам с условием, что будем относиться к ним, как к самим себе. Нам приходилось связываться с людьми на местах, говорить старым друзьям, что мы сокращаем им поставки, и мотаться по всему миру, разъясняя состояние баланса спроса и предложения и, следовательно, пропорциональное распределение. Осуществлять все это было очень трудно“.
Массовое распределение выдвигало и исключительно сложные проблемы материально‑технического характера. Даже в мирной и относительно прогнозируемой обстановке управление централизованной системой распределения было делом крайне сложным. Поставки нефти различной сортности из различных источников следовало координировать с работой транспортной системы и затем направлять на нефтеперерабатывающие предприятия, которые были рассчитаны на переработку именно данных конкретных сортов.
Когда речь шла о распределении сырой нефти, на добрую волю полагаться было нельзя. „Несоответствие“ сорта нефти могло вызвать серьезные повреждения рабочих механизмов перерабатывающего завода, равно как и снизить эффективность и рентабельность. А затем сырую нефть, прошедшую переработку и ставшую целым рядом товаров, следовало направлять в систему сбыта в соответствии с „потребностями рынка“, который хотел получать определенные виды продуктов – такие‑то объемы бензина, керосина для авиации и мазута для отопительных целей.
Еще более усложняла работу компаний необходимость определять фактическую стоимость поставок, чтобы не продавать их с убытком, но и не навлекать на себя обвинений в чрезмерной доли прибыли. Лицензионные платежи за разработку, масштаб государственного участия, стоимость выкупа, объемы – все это менялось каждую неделю и еще более осложнялось скачущими и имевшими обратную силу повышениями цен, которые принимались правительствами стран‑экспортеров. „Было невозможно предвидеть на основе всех этих факторов, не будут ли сегодняшние расчеты опрокинуты через месяц“, – сказал управляющий из компании „Шелл“. Действительно, можно было быть уверенным только в одном, – цены на нефть будут постоянно расти.
Масштабы операций были огромны, вопросы, которые требовали решения, бесчисленны. В обычных условиях сложные расчеты по передвижению нефти в какой‑либо интегрированной системе осуществлялись компьютерами на основе экономических и технологических критериев. Теперь по крайней мере не меньшее значение приобрели политические критерии – необходимость избегать обострения отношений с арабами и соблюдать введенные ими ограничения, удовлетворяя при этом по возможности полнее потребности стран‑импортеров. Чтобы выполнить эти две задачи, требовались ловкость и умение лавировать. Все же компаниям в значительной степени удавалось добиваться поставленных целей.
Реакция правительств на пропорциональное распределение компаниями сокращенных объемов была не одинакова. Вашингтон ограничивался небольшим числом прямых указаний. Джон Сохилл, глава новой федеральной комиссии по энергетике, призывал „ввозить как можно больше“ в Соединенные Штаты, но при этом соблюдать и „интересы всех других стран в получении справедливой доли мировых поставок“. Киссинджер на совещании нефтяных директоров особо подчеркивал, что им следовало бы „позаботиться о Голландии“, которая была одной из главных мишеней при введении эмбарго из‑за ее традиционной дружбы с Израилем.
Особо уязвимой была Япония. При скудости природных энергоресурсов ее огромный экономический рост обеспечивался за счет импорта нефти. В стране не только царила паника среди населения, но и в огромной степени усилилась зависимость от монополий, в большинстве своем американских. На одном совещании высокопоставленный чиновник министерства внешней торговли и промышленности обратил внимание представителей монополий на то, что им не следовало бы переадресовывать неарабскую нефть для Японии в Соединенные Штаты. На что представители компаний ответили, что они распределяют нефть по возможности справедливо и что они были бы более чем счастливы передать это неблагодарное дело правительствам, в том числе и правительству Японии, если оно того пожелает. Японское правительство отступило и в дальнейшем, по‑видимому, было удовлетворено положением вещей, хотя и продолжало очень внимательно отслеживать все операции4.
Наиболее бурной была реакция британского правительства. Великобритания была занесена арабами в список „дружественных стран“ и, таким образом, независимо от сокращений, должна была бы получать 100 процентов объема нефти от уровня сентября 1973 года. Министр торговли и промышленности с уверенностью информировал палату общин относительно „заверений арабских государств“, после того как лично посетил Саудовскую Аравию для заключения нефтяной сделки на уровне правительств. К тому же британскому правительству принадлежала половина акционерного капитала в „Бритиш петролеум“, но, по соглашению, заключенному Черчиллем еще во время приобретения акций в 1914 году, без права вмешательства в коммерческие вопросы. Однако шла ли сейчас речь о коммерции или безопасности? Между шахтерами и правительством консерваторов во главе с премьер‑министром Эдуардом Хитом уже назревала конфронтация, грозившая вылиться во всеобщую забастовку, что сократило бы добычу угля как раз в то время, когда уменьшались поставки нефти. Нехватка нефти серьезно бы укрепила позиции шахтеров, и Хит хотел получить столько нефти, сколько ему было необходимо, чтобы противостоять их требованиям.
Хит пригласил президента „Бритиш петролеум“ сэра Эрика Дрейка и президента „Шелл транспорт энд трейдинг“ сэра Фрэнка Макфэдзина в Чекере – загородную резиденцию премьер‑министров Великобритании. На встрече присутствовали также несколько министров кабинета: было ясно, что если премьер‑министр не уговорит нефтяные компании согласиться с его мнением, то заставит их принять его силой. Великобритании должно быть обеспечено преимущественное положение, заявил Хит. Компании не должны распространять сокращения на поставки в Соединенное Королевство и к тому же должны поддерживать 100‑процентное удовлетворение обычных его потребностей.
Оба президента отметили, что положение, в котором находятся нефтяные компании, выбрано не ими: они вовлечены в вакуум, который образовался в результате, как выразился позднее Макфэдзин, „неспособности правительств заранее спланировать меры по борьбе с нехваткой нефти“. У каждой компании, сказал он, имеется целый ряд юридических и моральных обязательств перед многими странами, с которыми они имеют деловые отношения. И, если они продолжат заниматься вопросами дефицита нефти, единственной политикой, которую они могут проводить, является равное принесение жертв. Хотя они и признают, что придерживаться даже этого принципа в дальнейшем окажется все труднее. Макфэдзин отметил и еще одну сторону вопроса. Он крайне сожалеет, но группа „Ройял Датч/Шелл“ на 60 процентов принадлежит голландцам и только на 40 – англичанам. Так что даже если бы он и согласился с требованиями Хита, – а он „определенно не согласится“, – проигнорировать таким образом голландские интересы окажется невозможно.
Хит, раздраженный резким отпором, еще более настойчиво начал давить на Дрейка, стремясь обеспечить Великобритании особое положение. Поскольку 51 процент „Бритиш петролеум“ принадлежит правительству, сказал он напрямик, Дрейк должен поступить так, как прикажет премьер‑министр. Но Дрейк не привык к таким резким демаршам и уж, безусловно, не привык уступать. Будучи в 1951 году главным управляющим „Бритиш петролеум“ в Иране, он под угрозой смерти выдержал натиск Мосаддыка, а затем выстоял против не менее решительного напора президента „Бритиш петролеум“, деспотичного Уильяма Фрэй‑зера, угрожавшего ссылкой на нефтеперерабатывающий заводик в Австралии. Он, безусловно, не собирался уступать и сейчас и не позволит Хиту, как он сказал позднее, „уничтожить компанию“. Пережив уже национализацию в Иране, Дрейк не намеревался стать участником какой‑либо еще национализации, которая, он был уверен, будет судьбой собственности „Бритиш петролеум“ в других странах, если он согласится на требование премьер‑министра.
Итак, на демарш Хита Дрейк ответил вопросом: „Вы требуете этого как акционер или как премьер‑министр? Если вы требуете дать Великобритании 100 процентов ее обычных поставок как акционер, то вы должны знать, что в качестве возмездия нас могут национализировать во Франции, в Германии, в Голландии и в других странах. Это будет означать огромные потери для мелких акционеров“. Затем Дрейк прочитал Хиту целую лекцию о том, что политика компаний запрещает ставить одного акционера в преимущественное положение в ущерб всем другим. На всех директоров как на доверенных лиц возлагается обязанность следить за интересами компании, а не ее отдельных вкладчиков. Так, компания окажется не только перед угрозой возмездия в странах, на которые лягут дополнительные сокращения, но и британскому правительству будут предъявлены иски за злоупотребление властью. „Если же вы выступаете от имени правительства, – продолжал Дрейк, – тогда я вам скажу, что должен получить от вас указание в письменном виде. Тогда мы сможем в качестве оправдания перед другими правительствами сослаться на форс‑мажорные обстоятельства, поскольку я буду действовать по указанию правительства. Возможно, всего лишь возможно, мы сможем избежать национализации“. – „Вы отлично знаете, что я не могу дать его в письменном виде!“ – потеряв самообладание, выкрикнул Хит. Ведь он был главным инициатором сотрудничества с европейцами и вступления Великобритании в Европейское сообщество. „Тогда и я этого не сделаю“, – с железной уверенностью ответил Дрейк.
Конечно, Хит всегда мог обратиться к парламенту и провести закон, который обязывал бы „Бритиш петролеум“ оказать особое предпочтение. Но, несколько дней поразмыслив, в том числе, несомненно, и о последствиях, которые будет иметь для отношений Великобритании с европейскими союзниками, поостыл и отказался от своих требований.
Гораздо лучше политиков представляли себе общую ситуацию государственные чиновники в Уайтхолле. Они признавали преимущества принципа „справедливой доли“ и проявляли большую ловкость в стремлении его изменить. Они тоже оказывали давление на международные компании, в частности, напоминая им о том, что именно от британского правительства зависит, кто получит лицензии на разведку нефти в Северном море. Таким путем они хотели получить то, что, по их мнению, было „справедливой долей“ – и еще немного больше.
В основе расхождений был механизм применения принципов равного дефицита и справедливой доли. Неарабская нефть направлялась в страны, на кото рые либо распространялось эмбарго, либо которые считались нейтральными. Арабская же нефть шла в страны, включенные в список привилегированных. В конечном счете все пять американских монополий пришли к тому, что переадресовывается третья часть их нефти. В целом принцип равного дефицита применялся относительно эффективно. По данным о наличии энергоресурсов и темпах роста потребления нефти в период эмбарго потери Японии составляли 17 процентов, Соединенных Штатов – 18 процентов, а Западной Европы – 16 процентов. Федеральная комиссия по энергетике впоследствии подготовила для подкомиссии сената по международным делам ретроспективный анализ работы неофициальной системы распределения. При рассмотрении всех факторов, говорилось в докладе, „трудно себе представить, чтобы при какой‑либо иной схеме было достигнуто более справедливое распределение сокращенного объема поставок“. И далее: компаниям „в период эмбарго приходилось принимать сложные и потенциально опасные политические решения, что выходило за рамки корпоративной сферы деятельности при обычных условиях“. В докладе также отмечалось, что выполнение таких обязанностей в дальнейшем компаниям не представляется желательным.
НОВЫЙ МИР ЦЕН
В конце декабря 1973 года в обстановке лихорадочного спроса на рынках наличной нефти нефтяные министры стран ОПЕК собрались в Тегеране, чтобы обсудить вопрос объявленной цены. Диапазон возможного повышения составлял от 23 долларов за баррель, предложенных экономической комиссией ОПЕК, до 8 долларов, предложенных Саудовской Аравией. Саудовская Аравия опасалась, что такой внезапный скачок цен вызовет застой, который затронет и ее наряду со всеми остальными. „Если вы покатитесь вниз, – сказал Ямани, имея в виду индустриальный мир, – то же самое произойдет и с нами“. Ямани утверждал, что огромные цены на недавних аукционах не являются показателем реального состояния рынка, а скорее отражают тот факт, что торги происходят в разгар введенного в политических целях эмбарго и сокращения добычи. К тому же король Фейсал хотел выдержать „политический характер“ эмбарго: оно не должно выглядеть как предлог для получения наибольшей прибыли. Все же перспектива того, что денежный доход только от одного и единственного товара повысится во много раз, могла, несомненно, приглушить дискомфорт экспортеров.
Наиболее агрессивно и громогласно выступал Иран. Шаху наконец представился случай получить доход, который, как он считал, был ему необходим для финансирования его грандиозных амбиций. Иран требовал установить новую объявленную цену в размере 11,65 доллара, что означало бы 7 долларов прибыли для правительства. У иранцев было и готовое обоснование. Цена основывалась не на размере спроса и предложения, а на „новой концепции“ шаха – стоимости альтернативных энергоносителей: жидкостей и газов из угля и сланцев. Это была минимальная цена, необходимая для того, чтобы новые процессы были экономически выгодными, как сказал шах. В частной беседе он в качестве примера с гордостью приводил исследование по этому вопросу, проведенное для Ирана Артуром Д. Литтлом. С предположениями Литтла согласились и многие нефтяные компании. На первый взгляд исследование говорило о серьезном анализе, но по сути дела в нем в лучшем случае выдвигались лишь предположения, поскольку из всех альтернативных процессов получения энергии в коммерческом плане функционировал только один, и это был единственный проект по сжижению угля в Южной Африке. Главный советник „Шелл“ по Ближнему Востоку высказался следующим образом: „Альтернативный источник существует в требуемом объеме только в экономической теории, а не в реальности“. Как и во время предыдущего периода нехватки нефти ожидание чудес, которое могли творить горючие сланцы, было на самом деле химерой.
После длительной и ожесточенной дискуссии в Тегеране нефтяные министры согласились с мнением шаха. Новая цена составит 11,65 доллара. Это было повышение, чреватое многочисленными историческими последствиями. Объявленная цена поднялась с 1,80 доллара в 1970 году до 2,18 долларов в 1971 году, в 1973 году в середине года она составляла 2,90 доллара, в октябре – 5,12 доллара и теперь, в конце декабря – 11,65 доллара. Так в результате двух повышений – в октябре и декабре – она повысилась в четыре раза. Ориентиром при новой объявленной цене стала саудовская сырая нефть „Арабиан лайт“. В соответствии с ней определялись цены на все другие сорта сырой нефти стран ОПЕК при дифференциации цен на основании качества (низкое или высокое содержание серы), тяжести и расходов по транспортировке на главные рынки. Указывая, что новая цена существенно ниже 17,04 доллара, предлагавшихся на недавнем иранском аукционе, шах величественно произнес, что она назначена исключительно из „любезности и благородства“.
В конце декабря Никсон направил шаху личное послание. Подчеркивая „дестабилизирующие последствия“ повышения цены и „катастрофические проблемы“, которые оно создаст в мировой экономике, он просил пересмотреть решение. „Такое резкое повышение цены крайне безосновательно в то время, когда поставки нефти искусственно ограничены“, – писал президент. Ответ шаха был краток и категоричен: „Мы понимаем значение этого источника энергии для процветания и стабильности мировой экономики. Но мы также знаем, что через тридцать лет этот источник богатства, возможно, перестанет для нас существовать“.
Теперь шах выступал уже в новой роли: он принял позу благодетеля, рассуждавшего на темы мировой экономики. „Ведь нефть – это фактически благородный продукт, – заявил он. – Мы, не задумываясь, сжигали ее для обогрева домов или даже получения электроэнергии, когда это столь легко может делать уголь. Зачем изничтожать этот благородный продукт в ближайшие, скажем, тридцать лет, когда в недрах земли остаются невостребованными тысячи миллиардов тонн угля“. Шах был склонен выступать и с морализаторских позиций по отношению к мировой цивилизации. У него было, что посоветовать промышленно развитым странам: „Им придется понять, что эра их замечательного прогресса и даже еще более замечательных доходов и богатства, основанных на дешевой нефти, закончилась. Им придется искать новые источники энергии и в конечном счете им придется затянуть пояса. В конце концов всем этим детям богатых семейств, которые едят досыта за завтраком, обедом и ужином, имеют свои машины и ведут себя, почти как террористы, бросая бомбы там и сям, придется пересмотреть все эти стороны жизни передового индустриального мира. И им придется работать…Вашим юношам и девушкам, которые получают баснословные деньги от своих отцов, придется подумать и о том, что они должны как‑тозарабатывать себе на жизнь“. Этот высокий пафос в период острейшего дефицита и скачка цен дорого обойдется шаху через несколько лет, когда ему отчаянно понадобятся друзья.
НАПРЯЖЕННОСТЬ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ
Эмбарго было прежде всего политическим актом, в котором использовались преимущества экономической ситуации, и оно вызвало политические действия на трех взаимосвязанных фронтах: между Израилем и его арабскими соседями, между Америкой и ее союзниками, между промышленными странами, в частности США, и арабскими экспортерами нефти.
На первом фронте в центре водоворота политических действий стоял Киссинджер. Он стремился воспользоваться преимуществами новой, созданной войной реальности: Израиль значительно утратил уверенность в своих силах, в то время как арабы, особенно Египет, отчасти себе ее вернули. Показателем его неустанной, напряженной и виртуозной деятельности стала „челночная дипломатия“. На этом пути было несколько поворотных пунктов, в том числе египетско‑израильское соглашение о разъединении в середине января 1974 года и наконец сирийско‑израильское соглашение о разъединении в конце мая. И хотя переговоры шли трудно и долго, они заложили основу для заключения более широкого соглашения четыре года спустя. На протяжении всего этого периода у Киссинджера был специфический партнер, Анвар Садат, преследовавший свои собственные цели. Садат начал войну, чтобы в первую очередь осуществить политические перемены. В послевоенных условиях шансы осуществить их при сотрудничестве с американцами возрастали, поскольку, как публично заявил Садат, „в этой игре у американцев 99 процентов карт“. Конечно, Садат был политиком, учитывавшим настрой своей аудитории. В частной беседе он признал, что „по сути дела, у американцев всего 60 процентов карт, но 99 процентов производят большее впечатление“. Для достижения его целей даже и 60 процентов были более чем достаточной причиной склоняться в сторону Соединенных Штатов. После встречи в Каире менее чем через месяц после окончания войны у Киссинджера не осталось никаких сомнений в том, что Садат, добившись задуманного потрясения, был готов начать мирный процесс и – идя на огромный риск – трансформацию психологии стран Персидского залива.
Что касается лагеря западных союзников, то нефтяное эмбарго ускорило развитие расхождений, самых серьезных со времени Второй мировой войны, которые обострились еще в 1956 году после Суэца. До октябрьской войны отношения уже были в какой‑то степени напряженными. Но с введением эмбарго европейские союзники во главе с Францией поторопились отмежеваться от политики США и занять более приемлемую для арабов позицию, причем этот процесс ускорило посещение европейских столиц Ямани вместе с его алжирским коллегой. В каждой столице оба министра настойчиво убеждали европейцев выступить против США и их ближневосточной политики. Ямани при этом пускал в ход все свои излюбленные средства убеждения. „Мы крайне сожалеем, – произносил он извиняющимся тоном, – что сокращение арабской нефтедобычи принесло Европе такие неудобства“. Однако не оставалось никаких сомнений в том, чего он хотел от европейцев.
По мере того, как европейцы, уступая, меняли курс политики, стремясь отойти от США и развить „диалог“ и „сотрудничество“ с арабскими странами и ОПЕК,в американском руководстве все чаще начали раздаваться ехидные замечания, что европейцы проявляют слабость и из кожи вон лезут в своем торопливом потака‑нии ОПЕК. Со своей стороны, европейцы настойчиво утверждали, что США проявляют слишком большую склонность к конфронтации и слишком воинственны по отношению к экспортерам нефти. Конечно, среди европейских стран были и свои расхождения. Французы и англичане больше всех других стремились отдалиться от Соединенных Штатов и искать расположения экспортеров, немцы – в меньшей степени, а голландцы были наиболее тверды в своих обязательствах по отношению к традиционным союзам. Некоторые европейцы подчеркивали, что в первую очередь должны защищать собственные интересы. „Вы зависите от арабов только в одной десятой части потребления, – резко сказал французский президент Жорж Помпиду. – Мы же зависим от них полностью“.
В европейской позиции присутствовало возмущение, как и некое романтическое стремление к справедливости. Французы уже давно были обижены на то, что „англо‑американцы“ несправедливо оттеснили их почти от всей ближневосточной нефти, в частности, нефти Саудовской Аравии, отказавшись соблюдать послевоенное Соглашение „Красной линии“, и что американцы ослабили их позиции в борьбе за Алжир. Затем в 1956 году разразился Суэцкий кризис. Прошло семнадцать лет с тех пор, как американцы отказались поддержать Францию и Великобританию в конфронтации с Насером, и это ускорило потерю позиций на международной арене и дало огромный толчок развитию арабского национализма. Но теперь премьер‑министр Эдуард Хит в частной беседе умышленно напомнил американцам, сказав „я не хочу поднимать Суэцкий вопрос, но он остается в памяти многих“. Несомненно, он оставался в памяти и самого Хита: в те болезненные дни он был лояльным парламентским партийным организатором в правительстве Энтони Идена. В середине ноября 1973 года Европейское сообщество приняло резолюцию в поддержку арабской позиции в арабо‑израильском конфликте. Тем не менее некоторые арабские лидеры не были удовлетворены. По словам одного из них, это был „воздушный поцелуй откуда‑то издалека. Это было, конечно, очень мило, но мы предпочли бы что‑то более теплое и близкое“. Резолюция тем не менее была своего рода уступкой, которую арабы хотели получить, и она оказалась достаточной для того, чтобы в декабре 5‑процентное сокращение добычи было для европейцев приостановлено. Однако министры нефти все же предупредили, что если европейцы не продолжат „оказывать давление на Соединенные Штаты и Израиль“, сокращение добычи будет введено.
Европейское сообщество беспокоил и еще один щекотливый вопрос. Хотя многие члены его были включены арабами в список „дружественных“ стран, для одной из них, а именно Голландии, по‑прежнему действовало эмбарго. Если бы остальные решили отказаться от переотправки нефти в Голландию, они бы нарушили одну из основных концепций Сообщества, – положение о свободном потоке товаров. Тем не менее члены Сообщества были намерены именно так и поступить. Но Голландия решительно напомнила, что является главным поставщиком природного газа Европе и обеспечивает, в том числе, 40 процентов его общего потребления во Франции и почти все потребности в нем для обогрева и приготовления пищи на газовых плитах Парижа. В результате достигли спокойного компромисса, включивше го не уточненную „общую позицию“ членов Европейского сообщества, и подчеркнули целесообразность ускорения поставок неарабской нефти международными компаниями.
Японцы, считавшие, что ближневосточный кризис их не касается, с тревогой обнаружили, что включены в список „недружественных“ стран. Япония получала из стран Персидского залива 44 процента необходимой ей нефти и больше всех промышленных стран зависела от нефти как энергоносителя – 77 процентов по сравнению с 46 процентами в Соединенных Штатах. Поступление нефти принималось как само собой разумеющийся факт, как основной и надежный источник экономического роста. Теперь положение изменилось. Ямани в категоричной форме объявил японцам о новой арабской экспортной политике: „При недружественном к нам отношении нефти вы не получите. Если вы займете нейтральную позицию, нефть вы получите, но не в таком объеме, как прежде. Если будете настроены дружественно, вы получите столько, сколько и раньше“.
До введения нефтяного эмбарго „ресурсная фракция“ в японском парламенте и деловых кругах уже выступала с призывом к пересмотру японской политики на Ближнем Востоке. Ей не удалось достичь многого по той причине, как выразился заместитель министра иностранных дел Фумихико, что „до 1973 года, имея деньги, мы всегда могли купить нефть“, а также потому, что Япония покупала нефть главным образом у международных компаний, а не напрямую у ближневосточных стран. Когда разразился кризис, ресурсная фракция резко усилила свою активность. 14 ноября, в тот самый день, когда Киссинджер уговаривал в Токио японского министра иностранных дел не порывать отношений с Соединенными Штатами, обеспокоенные лидеры деловых кругов в неофициальном порядке встретились с премьер‑министром Какуэем Танакой, чтобы высказать „прямую просьбу“ о кардинальном изменении политического курса. Несколько дней спустя арабские экспортеры отменили дальнейшее сокращение добычи для европейских стран, которые выступили с проарабским заявлением. Это было материальным доказательством награды за изменение политики. Тем временем неофициальные японские эмиссары, которые были в срочном порядке тайно посланы на Ближний Восток, сообщили, что принятие „нейтральной позиции“ арабы считают не только недостаточным, но даже рассматривают как проявление оппозиционности. 22 ноября Токио выступил с заявлением, одобрявшим арабскую позицию.
Эта декларация была первым за весь послевоенный период серьезным отходом Японии от Соединенных Штатов в вопросах внешней политики. Такой шаг вряд ли был предпринят с легкостью, поскольку в основе японской внешней политики был – или прежде был – американо‑японский альянс. Через четыре дня после этого заявления Япония получила свою награду: арабские экспортеры отменили для нее декабрьское сокращение добычи. Следуя одному из направлений новой ресурсной дипломатии, Токио направил на Ближний Восток целую вереницу высокопоставленных представителей для проведения деловых переговоров, носивших явно выраженную политическую окраску – по вопросам экономической помощи, займам, организации новых проектов, двусторонних соглашений, заводов. Поскольку нефтяные компании, ранее сообщившие, что в связи с распределением и сокращением добычи не смогут поставлять нефть в прежнем объеме, Япония больше не могла рассчитывать на них, и была вынуждена сама заняться поисками надежных поставок. Однако, несмотря на продолжавшийся нажим арабов, японцы все же отказались разорвать дипломатические и экономические отношения с Израилем. О тех же, кто в Японии требовал аннулирования этих связей, заместитель министра иностранных дел Того сказал, что они страдают известной болезнью – „нефтяным психозом“.
В то время, когда даже традиционные союзники уступали требованием арабов, Соединенные Штаты стремились организовать скоординированную реакцию промышленных стран. Вашингтон опасался, что обращение к принципу двусторонних соглашений – бартерным сделкам между какими‑либо двумя странами – приведет к созданию гораздо более жесткого и перманентно политизированного нефтяного рынка. Но процесс уже пошел. „Двусторонние соглашения: так поступают все“, – гласил заголовок в „Миддл‑Ист экономик сервей“ в январе 1974 года. Нефтяная промышленность со скептицизмом взирала на схватку политиков за обеспечение поставок своим странам. Представитель „Шелл“ Фрэнк Макфэдзин, хотя и с определенной долей цинизма, только удивлялся, глядя на „двух главных министров кабинета, улетавших с помпой, подобающей при освобождении осажденной крепости, чтобы подписать бартерное соглашение о поставке сырой нефти, которой не хватило бы для потребностей страны и на четыре недели. Делегации и эмиссары, политики и друзья политиков, большей частью малосведущие в нефтяном бизнесе, опускались на землю Ближнего Востока подобно чуме, принявшей почти библейские масштабы“. Со своей стороны, Киссинджер опасался, что двусторонние соглашения подорвут переговоры по урегулированию последствий арабо‑израильской войны, которые он вел. Если промышленные страны, считал он, пойдут и далее таким путем и будут придерживаться уже возникающих подходов на основе паникерства, недостаточной информации, меркантилизма, принципа „каждый за себя“ – то это приведет в конечном счете только к ухудшению их положения.
В феврале 1974 года в Вашингтоне состоялось совещание по энергетике. Его целью было успокоить страхи, вызванные борьбой за поставки, замазать глубокие трещины в лагере западных союзников и обеспечить такое положение, при котором нефть перестала бы быть вечной причиной раскола в нем. Англичане уже пришли к заключению, что положение „дружественной“ страны дает им не так уж много: им по‑прежнему грозили все те же повышения цен, и они были крайне заинтересованы принять участие в совещании. По сути дела, политическая ситуация в Великобритании резко изменилась. Последствия дефицита нефти многократно обострялись конфронтацией между шахтерами и премьер‑министром Хитом и вылились не просто в забастовку, а в настоящую экономическую войну. Запасов нефти при дефиците угля на электростанциях не хватало, экономика находилась в таком парализованном состоянии, в каком она не была со времени нехватки угля в 1947 году. Электроэнергия подавалась с перебоями, и промышленность перешла на трехдневную рабочую неделю. Возникли трудности с горячей водой для бытовых нужд, и священники торжественно объявляли по Би‑Би‑Си о том, что поочередное омовение всех членов семьи в одной и той же воде в ванне – есть добродетель и вклад в дело национального благосостояния. В недели, ставшие последними для правительства Хита, Великобритания, участвуя в вашингтонском совещании, поддерживала все предложения, которые на нем выдвигались.
Подобную позицию занимали и японцы. Они полагали, что скоординированная реакция промышленных стран была необходима. Они очень стремились найти какие‑то рамки, в которых удавалось бы гасить, как заметил один высокопоставленный представитель, „тенденцию политики США становиться крайне конфронтационной“. Немцы также горели желанием обсудить вопрос на многосторонней основе. Однако этого нельзя было сказать о французах. Они не перестроились. Появившись с большой неохотой на вашингтонском совещании, они были громогласны в своем антагонизме. Министр иностранных дел Мишель Жобер, доведший голлизм до предела, открыл совещание Европейского сообщества в Вашингтоне оскорбительным приветствием: „Bonjour les traitres“ („Здравствуйте, предатели“).
Со своей стороны, официальные американские представители усиленно и довольно прозрачно намекали, что расхождения по вопросам энергетики ставят под угрозу саму безопасность Америки, в том числе и содержание американских войск в Европе. Большинство участников совещания признали преимущества консенсуса и некоторых общих направлений политики по международным вопросам энергетики. Совещание привело к созданию программы на случай возникновения „следующего“ кризиса и учреждению международного энергетического агентства (МЭА), которое будет заниматься управлением этой программы и в самых общих чертах координацией энергетической политики западных стран. Оно должно было также способствовать сокращению стремления к двусторонним соглашениям и установлению рамок общей реакции в политическом и техническом отношении. До конца 1974 года агентство обосновалось в зеленой части 16‑го округа Парижа, во флигеле Организации экономического сотрудничества и развития. И все же одна страна отказалась в нем участвовать, – это была Франция. МЭА, сказал не перестроившийся министр иностранных дел Жобер, это – “machine de guerre“, инструмент войны.
НЕФТЯНОЕ ОРУЖИЕ ЗАЧЕХЛЕНО
Когда и как эмбарго будет отменено? Этого не знал никто, даже арабы. В последние дни декабря 1973 года с появлением первых признаков прогресса в урегулировании арабо‑израильских разногласий арабские производители все же ввели некоторые послабления. Эмбарго стало, как саркастически заметил Киссинджер, „все менее применимым“. Он дважды посетил Саудовскую Аравию для встреч с королем Фейсалом. Во время первой поездки, проходя по огромному залу, где вдоль стен в черных одеяниях и белых головных уборах сидели главные лица государства, Киссинджер, эмигрировавший в Америку еврей, поймал себя на мысли о том, „какие странные зигзаги судьбы довели беженца от нацистских преследований до Аравии в качестве представителя американской демократии“. Он также нашел, что форма обсуждения была для него совершенно непривычна. „Король говорил всегда мягко и вкрадчиво, даже на чем‑либо настаивая. Он произносил краткие и туманные фразы, допускавшие множество толкований“. Киссинджер сидел в центре зала, по правую руку короля. „Обращаясь ко мне, король смотрел прямо перед собой, и только время от времени бросал на меня взгляд из‑под чалмы, словно желая убедиться в том, что я понял скрытый смысл той или иной загадочной фразы“. Так было, когда он говорил о планах евреев и коммунистов захватить Ближний Восток или о конкретных политических вопросах, стоявших на пути отмены эмбарго. Король говорил извиняющимся тоном, но твердо. Он не волен самолично отменить эмбарго: решение арабов о применении нефтяного оружия было общим, общим должно быть и решение об отмене его использования. „Для этого мне необходимо, – сказал король, – обратиться к моим коллегам и просить их об этом“. Король также настаивал на том, чтобы Иерусалим стал арабским исламским городом – и это было одним из его главных условий. А как же Стена плача? Король ответил, что где‑нибудь еще можно построить другую стену, у которой евреи могут плакать.
Не получив обещаний о снятии эмбарго, Вашингтон обратился к своему новому союзнику Анвару Садату. Главный сторонник эмбарго, извлекший из него наибольшую выгоду, Садат стал теперь главным поборником его отмены. Он говорил, что эмбарго, как и сама война, сослужило свою службу и должно быть снято. Он даже признал, что сохранение эмбарго теперь будет работать против интересов Египта. При его существовании Соединенные Штаты достигли бы лишь ограниченных результатов на пути к ближневосточному миру. Более того, сохранение эмбарго, в конечном счете являвшегося средством экономической войны, могло нанести долгосрочный ущерб всей сфере отношений Америки с такими странами, как Саудовская Аравия и Кувейт, поставив их в невыгодное положение. И, наконец, был ли Уотергейт или не было Уотергейта, такая супердержава как Соединенные Штаты не может долго находиться в таком положении.
Но арабские экспортеры, успешно разыграв козырную карту, не торопились убрать ее со стола. Не хотели они и показывать миру, как быстро уступают американским настояниям. Тем не менее, пока вопрос об отмене эмбарго оставался нерешенным, объем просачивавшейся обратно на рынок нефти увеличивался, и санкции оказывались все менее эффективными. Саудовцы намекали американцам, что эмбарго не может быть отменено при отсутствии некоторых сдвигов на сирийском фронте и без хотя бы молчаливого согласия сирийского лидера Ха‑физа Асада. Асад был в ярости от дипломатических успехов Садата на египетском фронте. В решении вопроса о снятии эмбарго Асад обладал правом вето. Помогая американцам решить этот вопрос, саудовцы открыли дверь для сирийско‑израильских переговоров по разъединению войск на Голанских высотах. В середине февраля 1974 года в Алжире состоялась встреча Фейсала с Садатом, Асадом и президентом Алжира. Садат дал ясно понять, что эмбарго изжило себя и действует вопреки арабским интересам. Он также заявил, что американцы возглавляют путь к новой политической реальности. Фейсал согласился на снятие эмбарго при условии, что США предпримут некоторые „конструктивные усилия“ для достижения сирийско‑израильского разъединения. Однако в последующие несколько недель Асад продолжал придерживаться крайне жесткой линии, что помешало остальным публично выказать положительное отношение к отмене эмбарго. Предупреждение США о том, что их участие в мирном процессе не может продолжаться без отмены эмбарго, было воспринято очень серьезно. 18 марта арабские нефтяные министры согласились на его снятие. Сирия и Ливия были против.
После двух десятилетий обсуждений и нескольких неудавшихся попыток нефтяное оружие было в конечном счете успешно применено. Результаты оказались не просто убедительными, но ошеломляющими и гораздо более действенными, чем сторонники его применения даже осмеливались предполагать. Оно изменило расстановку сил и геополитическую реальность на Ближнем Востокеи во всем мире. Оно изменило мировую нефтяную политику и отношения между производителями и потребителями и, соответственно, внесло изменения в мировую экономику. Теперь оно могло убрано в ножны. Но угроза его применения оставалась.
В мае Киссинджеру удалось добиться сирийско‑израильского разъединения, и мирный процесс, по‑видимому, начался. В июне Ричард Никсон посетил Израиль, Египет, Сирию и Саудовскую Аравию. Эмбарго стало теперь историей, хотя и очень недавней, по крайне мере в том, что касалось Соединенных Штатов. (Оно по‑прежнему действовало по отношению к Нидерландам.) Соединенные Штаты могли справедливо считать, что положили начало некоторым значительным достижениям в ближневосточной дипломатии. Однако Уотергейт оставался постоянно присутствовавшей реальностью, и поведение Никсона во время поездки поразило некоторых эксцентричностью. На встрече с членами кабинета в Тель‑Авиве он внезапно заявил, что ему известен наилучший метод борьбы с террористами. Он вскочил и с воображаемым пулеметом в руках изобразил, как, в стиле чикагских мафиози, расстреливает весь кабинет министров, выкрикивая попутно „бам‑бам‑бам“. Израильтяне были растеряны и явно встревожены. В Дамаске Никсон сказал президенту Асаду, что израильтян следует гнать до тех пор, пока они не свалятся с высот, и чтобы подчеркнуть эту идею, проделал странные рубящие движения. После этого на встречах с другими американцами Асад неоднократно изображал эти жесты Никсона.
Но момент величайшего торжества ждал Никсона в Египте. Его пребывание там можно было назвать только триумфальным. Его приветствовали миллионы охваченных энтузиазмом и восторгом египтян. По‑настоящему это был его последний взлет, но в нем было много причин и для иронии. Ведь это была страна Гамаля Абдель Насера, который сумел заставить эти огромные толпы отвергнуть западный империализм и, в частности, Соединенные Штаты. Но теперь страной, где Ричарда Никсона скорее всего встретят враждебные толпы, был уже не Египет, а Соединенные Штаты. В последние месяцы его президентского правления враждебность и неприятие в США стали резко контрастировать с теми шумом и возбуждением, которыми его приветствовали на улицах Каира. Для египтян это было празднование силы и престижа Египта, которые вернул Садат и которые сильно померкли в последние годы правления Насера. Для Никсона это было не меньшим празднеством – снятие эмбарго и успех дипломатической деятельности его администрации. Но он вряд ли мог этому радоваться. Во время поездки он неважно себя чувствовал, болела опухшая от флебита нога. Значительную часть своего свободного времени он посвящал прослушиванию пленок с записями своих разговоров в Овальном кабинете, которые в конце концов вынудят его подать в отставку.
ГЛАВА 31. АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ОПЕК
Mеняются времена, возвышаются и гибнут империи, так и современное административное здание на Карл Люгер‑Ринг в Вене, с книжным магазинчиком на первом этаже, привычно называли здание „Тексако билдинг“ в честь его главного арендатора. К середине семидесятых годов в него вселился новый жилец, и довольно быстро этот огромный дом стали называть „ОПЕК билдинг“. Смена названия символизировала коренной переворот в мире, ту внезапность, с которой страны‑экспортеры нефти заняли положение, ранее принадлежавшее международным компаниям.
Штаб– квартира ОПЕК осела в Вене совершенно случайно. Первоначально она размещалась в Женеве, однако у швейцарцев были некоторые сомнения относительно ее намерений и даже ее значения, и они отказались предоставить ей дипломатический статус как международной организации. Австрийцы же, напротив, жаждали повысить свой международный престиж и были готовы принять ее. Таким образом, в 1965 году, несмотря на менее удобное воздушное сообщение с Австрией, ОПЕК переехала в Вену. Размещение ОПЕК в Вене в здании „Тексако“ ясно показало, как мало значила на первых порах эта довольно таинственная и странная организация, которая при всей шумихе при ее образовании еще не сумела выполнить своей главной политической задачи – утверждения „суверенности“ природных ресурсов стран‑экспортеров нефти.
Но теперь, в середине семидесятых, все обстояло иначе. Мировой порядок коренным образом изменился. Членов ОПЕК обхаживали, им льстили, их ругали и обвиняли. Для этого были все основания. В основе мировой торговли лежали цены на нефть, и те, кто мог контролировать их, стали новыми хозяевами в мировой экономике. В середине семидесятых в ОПЕК входили все мировые экспортеры нефти, за исключением Советского Союза. От воли ОПЕК зависело, наступит ли инфляция или спад. Они стали новыми международными банкирами. Они устанавливали такой мировой экономический порядок, при котором они бы не ограничивались лишь перераспределением ренты от потребителей к производителям, а полностью перераспределяли и экономическую, и политическую власть. Они становились примером для всех других развивающихся стран, реально влияли на внешнюю политику и даже суверенитет самых могущественных стран мира. Поэтому неудивительно, что один из бывших генеральных секретарей ОПЕК однажды назвал годы с 1974 по 1978 „золотым веком ОПЕК“.
Впрочем, в данном случае давала о себе знать определенная ностальгия. Конечно, в середине семидестых страны ОПЕК действительно полностью приобрели контроль над своими ресурсами. Уже невозникал вопрос о том, кому принадлежит их нефть. Но главным в те годы была ожесточенная борьба не только с потребителями, но и внутри самой ОПЕК за установление цен на нефть. И именно этот вопрос станет главным в экономической и внешней политике целого десятилетия.
НЕФТЬ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Четырехкратное повышение цен на нефть, вызванное арабским нефтяным эмбарго и ощущением полного контроля производителей над ценами, привело к коренным переменам во всех сферах мировой экономики. Суммарные доходы стран‑экспортеров выросли с 23 миллиарда долларов в 1972 году до 140 миллиардов долларов в 1977 году. У них образовались огромные финансовые активы, и опасения, что они не смогут израсходовать их, вызывали серьезную тревогу у международных банкиров и у экономических стратегов. Неизрасходованные десятки миллиардов долларов, лежавшие без движения на счетах, могли означать серьезное сокращение деловой активности и перекосы в мировой экономике.
Однако беспокойство оказалось излишним. Нефтяные экспортеры, внезапно разбогатев, причем так, что они и не мечтали разбогатеть, встали на путь бешеного расходования накопленных средств. Они тратили деньги на индустриализацию, создание инфраструктуры, субсидии и услуги, предметы первой необходимости и роскоши, покупку вооружений, компенсацию убытков и коррупцию. При таком урагане затрат порты перестали справляться с потоком грузов, и суда неделями ждали очереди на разгрузку. Оптовые фирмы и продавцы всевозможных товаров и услуг в промышленных странах бросились в страны‑экспортеры, дрались за номера в переполненных гостиницах и локтями проталкивали себе путь в приемные различных министерств. Производителям нефти предлагали покупать буквально все – теперь у них были деньги, чтобы покупать.
В огромный бизнес превратились закупки вооружений. Для индустриальных стран Запада срыв поставок в 1973 году и возросшая зависимость от Ближнего Востока сделали надежный доступ к нефти стратегической проблемой первого порядка. Одним из путей обеспечить этот доступ и сохранить или даже приобрести влияние была настойчивая продажа оружия. Страны ближневосточного региона отвечали таким же горячим стремлением его купить. События 1973 года показали всю нестабильность этого региона. Помимо глубоких региональных и национальных противоречий, столкновения амбиций, события на Ближнем Востоке привели к возможности конфронтации между двумя супердержавами вплоть до объявления ядерной тревоги.
Но после 1973 года оружие, при всем изобилии закупавшихся товаров, было лишь одним из них. Приметой времени стало увеличение в Саудовской Аравии числа грузовых машин – небольших пикапов „Датсун“. Как говорил один из руководителей автомобильной монополии „Ниссан“, „содержать верблюдов крайне невыгодно, гораздо дешевле обойдется „Датцун“. Конечно, в середине семидесятых „Датсун“ стоил в Саудовской Аравии 3100 долларов, а за верблюда просили всего 760. Но при 12 центах за галлон бензина и растущих расходах на содержание верблюда, „кормить“ „Датсун“ оказывалось намного дешевле. Так что почти мгновенно „Ниссан“ стал в Саудовской Аравии главным поставщиком этих машин, а „Датсун“ – любимцем пастухов‑бедуинов, отцы и деды которых в качестве кавалерии на верблюдах составляли костяк армий Ибн Сауда. В целом, колоссальные расходы стран‑экспортеров плюс галопирующая инфляция при стремительном развитии их экономик гарантировали быстрое исчезновение их финансовых активов. И они действительно исчезли, причем полностью – вопреки первоначальным страхам банкиров. В 1974 году страны ОПЕК имели положительное сальдо в размере 67 миллиардов долларов платежного баланса по товарам и услугам и таким „невидимым“ статьям как доходы от инвестиций. К 1978 году излишки обернулись дефицитом в 2 миллиарда долларов.
Для развитых стран индустриального Запада внезапный скачок цен на нефть означал глубокие перемены. Выплаты и ренты с нефти, известные как „налог“ ОПЕК, которые пополняли казну экспортеров, привели к существенному сокращению их покупательной способности. Введение этого „налога“ вызвало в промышленных странах глубокий экономический спад. Валовой национальный продукт США упал на 6 процентов с 1973 по 1975 годы, а безработица увеличилась вдвое и достигла 9 процентов. В Японии ВНП в 1974 году снизился впервые с конца Второй мировой войны. Японцы забеспокоились, что их экономическое чудо, по всей вероятности, подходит к концу. Тем временем присмиревшие студенты перестали выкрикивать на демонстрациях в Токио „К черту ВНП!“ и признали достоинствами усердный труд, обещание пожизненной занятости. В то же время повышение цен привело к резкому скачку инфляции в тех экономиках, где уже и так шли инфляционные процессы и наблюдался спад. И хотя в 1976 году в индустриальном мире возобновился экономический рост, инфляция настолько прочно проникла во все поры экономик Запада, что ее стали рассматривать как неразрешимую проблему современности.
Более всего страдали от повышения цен те развивающиеся страны, которые не были вознаграждены свыше месторождениями „черного золота“. Повышение цен в семидесятые годы нанесло сокрушительный удар по их экономическому развитию. Оно вызвало не только усиление темпов спада и инфляцию, но и нарушило их платежный баланс, сдерживая экономический рост или вообще тормозя его. Кроме того, сильный удар нанесли им и ограничительные меры на мировую торговлю и трудности с притоком инвестиций. Для развивающихся стран выходом было получение займов, и таким образом приличное количество тех излишних долларов ОПЕК „возвращалось“ через банковскую систему на денежный рынок и затем поступало к ним в виде займов. Так, справляясь с нефтяным шоком, они залезали в долги. А для тех стран, которые находились на более низком уровне развития, пришлось придумать даже новый термин – „четвертый мир“ – у них была полностью выбита почва из‑под ног и они стали еще беднее, чем прежде.
Новые и очень сложные проблемы развивающихся стран поставили экспортеров нефти в затруднительное и даже неловкое положение. Ведь они тоже при надлежали к развивающимся странам, и они провозгласили себя авангардом „Юга“, то есть развивающегося мира, в борьбе против „эксплуатации“ „Севера“, то есть индустриального мира. Их задача, говорили они, состоит в том, чтобы произвести перераспределение богатства, накопленного Севером и передать его Югу. И на первых порах другие развивающиеся страны, заботясь об экспорте своих товаров и общих перспективах развития, громко приветствовали победу ОПЕК и заявляли о своей солидарности с ней. Это было как раз в то время, когда широко обсуждался „новый мировой порядок“. Но новые цены ОПЕК отбросили остальной развивающийся мир далеко назад. И в качестве помощи другим развивающимся странам некоторые экспортеры нефти приняли программы предоставления им займов и поставок нефти. Но их главным ответом на вызванную повышением цен реакцию были выступления за широкий „диалог между Севером и Югом“, между развитыми и развивающимися странами, за увязку цен на нефть с другими вопросами развития, все с той же целью – способствовать глобальному перераспределению богатства.
В 1977 году в Париже состоялась конференция по международному экономическому сотрудничеству, которая должна была решить вопрос о диалоге между Севером и Югом. Некоторые промышленные страны согласились участвовать в ней, надеясь получить доступ к нефти. Французы, все еще кипевшие от негодования по поводу ведущей роли Киссинджера в период нефтяного эмбарго и давно завидовавшие позициям Америки на Ближнем Востоке, способствовали проведению этого диалога, видя в нем альтернативу американской политике. Другие страны относились к нему более спокойно. Они считали, что такой диалог может приглушить конфронтацию между экспортерами и импортерами и создать некий противовес повышению цен. Хотя диалог, поглощая массу усилий, шел в течение двух лет, в конечном счете он мало что дал. Участники не смогли договориться даже по вопросу о коммюнике. Для остального развивающегося мира гораздо важнее в практическом смысле оказалась не возвышенная риторика в Париже, а суровая реальность – неспособность западных рынков принять их товары.
САУДОВЦЫ ПРОТИВ ШАХА
Представления под названием „заседания ОПЕК“ превратились к середине семидесятых годов в перворазрядные зрелища. Мир следил за ходом совещаний ОПЕК со всей их помпой, драматизмом и перипетиями. На лету ловились любые указания насчет того, что ожидает мировую экономику, и любые реплики того или иного министра в ответ на вопрос, который ему прокричат, когда он будет проходить по вестибюлю отеля. Нефтяной жаргон ОПЕК – все эти „дифференциалы“, „сезонные колебания“, „обеспечение запасов“ – стал теперь языком государственных чиновников, политиков, журналистов и финансистов. Хотя в тот период ОПЕК обычно называли „картелем“, она, по сути дела, таковым не была. „ОПЕК можно назвать клубом или ассоциацией, но, строго говоря, никак не картелем“, – заметил в 1975 году Говард Пейдж, бывший координатор „Экс‑сона“ по Ближнему Востоку. В качестве доказательства он ссылался на словарь Фанка и Уагналла, который определял картель как „объединение производителей в целях регулирования цен и объема продукции по какому‑либо товару“.ОПЕК, безусловно, стремилась устанавливать цены, но не объемы нефтедобычи – во всяком случае пока еще. Ни квот, ни лимитов по объему нефтедобычи не существовало. На рынке был действительно один хозяин, но не какой‑то картель, а „относительно неуправляемая олигополия“, как говорилось в одном определении. В этот период большинство экспортеров вели добычу на полную мощность. Исключение составляла Саудовская Аравия, которая привела объем добычи нефти в соответствие с задачами своей ценовой политики.
На критику в свой адрес в связи с повышением цен экспортеры обычно указывали, что структурные составляющие цены, которую потребители платят за нефтепродукты в пересчете на баррель нефти, четко показывают, что правительства индустриальных стран забирают себе в виде налога больше, чем страны ОПЕК получают при своей продажной цене. Так обстояло дело в Западной Европе, где высокий налог на бензин имел длинную историю. Например, в 1975 г около 45 процентов того, что западноевропейский потребитель платил за нефтепродукты, шли правительству, и только лишь 35 процентов приходились на цену ОПЕК. Остальные 20 процентов уходили на транспортировку, переработку, прибыль розничной торговли и т. д. Это объяснение было не столь верным для Соединенных Штатов, где на долю налога приходилось лишь 18 процентов, а доля экспортера ОПЕК составляла порядка 50. В Японии правительство забирало 28 процентов, 45 получала ОПЕК. Но как бы то ни было, в ответ на заявления ОПЕК правительства стран‑потребителей говорили, что то, что они делают внутри своих границ и каким налогом они облагают своих граждан, является их внутренним делом и что макроэкономические последствия взимаемых ими налогов с продаж и так называемого налога ОПЕК в корне отличны.
Однако главный вопрос состоял в том, что произойдет в будущем. В 1974–1978 годах страны‑потребители нефти тревожил один простой вопрос: будет ли по‑прежнему расти цена на нефть или же она останется более или менее стабильной и таким образом фактически снизится в результате инфляции? От ответа на этот вопрос зависело, помимо всего прочего, произойдет ли экономический рост или наступит спад, повысится уровень безработицы и инфляции, а также направление потоков из десятков миллиардов долларов по всему миру. Хотя в ОПЕК, как обычно, утверждалось, существовал серьезный раскол между „радикалами“ и „умеренными“, этот же вопрос лежал и в основе постоянного спора между двумя крупнейшими производителями нефти на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией и Ираном. Это было давнее соперничество. В шестидесятые годы эти две страны боролись за то, чтобы добывать больший объем нефти. Теперь между ними шла борьба из‑за цены, а также за первенство в этой области.
Для шаха повышение цен в декабре 1973 году было величайшей победой, и победой в огромной степени его личной. С этого момента он предвкушал свой „звездный час“ – перспективу, по‑видимому, нескончаемых доходов, обеспеченных как бы по воле божественного провидения, для реализации своих амбиций и создания, как он ее называл, Великой Иранской цивилизации, а заодно и решения растущих внутренних экономических проблем Ирана. „Одной из немногих вещей, которые любит мой муж, – как‑то в середине семидесятых годов заявила супруга шаха, – это летать, вести самолет, автомашину, катер – одним словом, он любит скорость!“. Свою любовь к скорости шах и стремился перенести на всю страну, пытаясь втолкнуть Иран в двадцать первое столетие. Приэтом он игнорировал смятение и дезориентацию, которые вызывала такая поспешность, а также возмущение и подавленность среди многих, кто не разделял его увлечение модернизацией. Иран, провозглашал шах, станет пятой крупнейшей индустриальной державой мира – новой Западной Германией, второй Японией. „Иран встанет в один ряд с важнейшими странами мира, – горделиво заявлял он. – Все, о чем можно только мечтать, будет здесь осуществлено“.
Потеряв чувство реальности в результате огромного притока нефтедолларов, шах оказался полностью во власти своих амбиций и проектов. Он также стал верен всем атрибутам имперской власти. Кто мог осмелиться не согласиться с шахом, предостеречь, оказаться посланцем плохих новостей?! Что касается критики по поводу повышения цен, шах был настроен саркастично и не придавал ей особого значения. Инфляция на Западе, говорил он, оправдывает дальнейшее повышение цен на нефть. Он сбрасывал со счетов тот факт, что более высокие нефтяные цены уже сами по себе могут поддерживать инфляцию. „Прошли времена, когда большим индустриальным странам могла безнаказанно сходить с рук тактика политического и экономического давления, – объяснял он послу Соединенных Штатов. – Я хотел бы, чтобы вы знали, что шах не уступит перед иностранным давлением в вопросе о ценах на нефть“. Кроме того, более ограниченные нефтяные запасы Ирана, во всяком случае меньшие, чем у его соседей, говорили о необходимости установления более высоких цен, причем сейчас, а не потом. Поскольку когда наступит это „потом“, они могут уже истощиться. Наконец существовала еще и гордость шаха. Теперь все прошлые унижения могли быть похоронены, все прежние насмешки и обиды переадресованы их авторам. „Есть люди, которые считали, а, возможно, считают и сейчас, что я – игрушка в американских руках, – сказал в 1975 году шах. – С какой стати мне соглашаться на такую роль? У нас есть необходимая мощь, которая сделает нас еще сильнее, так что зачем нам довольствоваться ролью орудия в чьих‑то руках?“.
Однако настойчивость шаха в повышении цен привела к столкновению с его соседями по ту сторону залива. Саудовская Аравия не одобрила повышения цен в декабре 1973 года, считая, что оно слишком велико и тем самым угрожает ее экономическому положению. Саудовцев также тревожила возможная потеря контроля в ОПЕК и в принятии основных решений в ценовой политике, что было крайне важно для существования королевства и его будущего. К тому же дальнейшее повышение цен на нефть стимулировало повторение циклов экономического спада и инфляции, и это, естественно, было не в их интересах. Обладая огромными нефтяными ресурсами, саудовцы в отличие от Ирана занимали решающие позиции на долгосрочных рынках нефти и опасались, что постоянные повышения цен приведут к переходу от нефти к традиционным и альтернативным энергоносителям, а это сократит их рынок и таким образом уменьшит значение их ресурсов.
Помимо этих соображений, были и другие основания для тревоги. Саудовская Аравия – страна с большой территорией, но с небольшим населением, не намного большим по численности, чем, например, в географически крохотном Гонконге. Быстрый рост нефтяных доходов, ослабляя традиционные связи, обеспечивавшие целостность королевства, мог создать социальную и политическую напряженность, а также определенную угрозу в будущем. Не хотели саудовцы и того, чтобы высокие цены нарушали, осложняли или даже сводили на нет достижение их целей в условиях арабо‑израильского конфликта. Они также опасались, что повышение цен приведет к политической нестабильности как в индустриальном, так и в развивающемся мире, и в свое время волна ее дойдет и до них. Экономические трудности Европы середины семидесятых, видимо, открывали дверь в правительство коммунистам, в частности в Италии, и перспектива их прихода к власти на Средиземноморском побережье Европы глубоко тревожила саудовское правительство, уже опасавшееся планов Советского Союза усилить свое влияние на Ближнем Востоке.
В Эр– Рияде была и еще одна причина для тревоги – Иран. Саудовцы были убеждены, что шах полностью находится во власти своих амбиций и проявляет слишком большую близорукость, требуя повышения цен. Дальнейшие скачки цен только увеличат доходы и власть Ирана и позволят ему покупать еще больше оружия. Это изменит стратегический баланс сил и поощрит шаха выступить за утверждение своего господства над районом Персидского залива. Почему, удивлялись саудовцы, американцы так носятся с шахом? В августе 1975 года посол США в Эр‑Рияде поставил Вашингтон в известность о высказывании Ямани: „Ему и другим саудовцам становится тошно от разговоров о вечной дружбе между Ираном и Соединенными Штатами. Им хорошо известно, что шах страдает манией величия и что он крайне неуравновешен психически. И если мы не видим этого, значит, с нашей наблюдательностью явно не все в порядке“. В словах Ямани это прозвучало как предупреждение. И далее: „В случае ухода шаха со сцены, мы получим также в Тегеране воинствующий антиамериканский режим“.
Таким образом в силу всех этих причин политического и экономического характера саудовцы, следуя своей линии, на каждом совещании ОПЕК настойчиво выступали против дальнейшего повышения цен. Однажды их решимость даже заставила ОПЕК принять две цены: более низкую для саудовцев и их союзника, Объединенных Арабских Эмиратов, и более высокую для одиннадцати других членов организации. Когда же другие экспортеры выдвигали обоснования для повышения цен, саудовцы в знак протеста увеличивали добычу, добиваясь тем самым понижения цен. Однако в ходе этой борьбы они сделали одно обескураживающее открытие: их способность к устойчивому увеличении производства оказалась не так высока, как это ранее предполагалось.
ЯМАНИ
Во всех маневрах саудовцев всеобщее внимание привлекал один человек – Ахмед Заки Ямани. Для мировой нефтяной промышленности, политиков и государственных деятелей, для журналистов и вообще для всего мира Ямани стал представителем и, по сути дела, символом новой эры – эры нефти. Его лицо с огромными ясными, казалось, немигающими глазами, подстриженной, слегка вьющейся ван‑дейковской бородкой было знакомо всему миру. Но мировое общественное мнение, стремясь к упрощению и постоянному поиску главных действующих лиц, а также не зная непрозрачную политическую структуру Саудовской Аравии, не всегда понимало его роль и приписывало ему большую власть, чем у него в действительности была. Ведь в конечном счете он был лишь представителем Саудовской Аравии, хотя и чрезвычайно значительным. У него не было власти диктовать или единолично определять саудовскую политику, онмог лишь ее оформлять. Его стиль в дипломатии, блестящие способности аналитика и искусство вести переговоры, умение общаться с прессой – все это давало ему огромное влияние. Его силу укрепляло и время, тот простой факт, что он находился у истоков власти более длительный период, чем кто‑либо другой.
Хотя Ямани часто называли „шейхом“, в данном случае этот титул был почетным, данью уважения к выдающимся деятелям незнатного происхождения, одним из которых он был. По происхождению Ямани был хиджази, горожанин из района более светского торгового побережья Красного моря в провинции Хид‑жаз. Северная часть Саудовской Аравии, провинция Неджд, в отличие от Хиджа‑за была более изолированной от мира и состояла из разбросанных в пустыне княжеств, которые в свое время обеспечили поддержку Ибн Сауду и которые считали своим центром Эр‑Рияд. Ямани родился в Мекке в 1930 году, в том самом году, когда Сент‑Джон Филби убедил короля Ибн Сауда, что единственный выход из тяжелейшего финансового положения королевства – дать разрешение на разведку нефти и других полезных ископаемых. В детстве Ямани по улицам Мекки ходили верблюды, а вечерами читать он мог либо дома при свете керосиновой лампы, либо отправляясь в мечеть, где было проведено электричество.
И его дед, и его отец были религиозными проповедниками и исламскими учеными‑правоведами. Одно время отец Ямани был великим муфтием в Голландской Ост‑Индии и Малайе. Такое сочетание знаний и религиозного рвения определило мировоззрение Ямани и его интеллектуальное развитие. После возвращения отца в Саудовскую Аравию дом семьи в Мекке стал местом сбора его учеников. „Это были в основном известные правоведы, они обсуждали с отцом законы и различные случаи в юридической практике, – позднее говорил Ямани. – Я начал прислушиваться к их спорам и после того, как они уходили, мы с отцом часто засиживались допоздна – он наставлял меня и критиковал мои высказывания“.
Способности Ямани были отмечены еще в школе. Он уехал учиться в Каирский университет, а затем поступил на юридический факультет Нью‑йоркского университета. Окончив его, он провел год, изучая международное право, в Гарвардской школе права. У него выработалось интуитивное понимание психологии Запада, он научился общаться с американцами и чувствовать себя при этом совершенно свободно. Вернувшись в Саудовскую Аравию, он основал первую в стране юридическую контору. Выполняя обязанности советника в различных правительственных учреждениях, он подготовил контракт на предоставление в 1957 году концессии японскому консорциуму „Арабиан ойл“, который вклинился в ряды нефтяных монополий, действующих в Саудовской Аравии.
Ямани выступал также с комментариями по юридическим вопросам в различных газетах. Именно это и привлекло к нему внимание такого важного патрона как молодой принц Фейсал, второй сын короля Ибн Сауда. Фейсал предложил Ямани стать его советником по юридическим вопросам. В 1962 году, когда Фейсал вышел победителем в борьбе за власть со своим братом Саудом, одним из его первых действий было увольнение нефтяного министра, националиста Абдуллы Тарики и назначение на этот пост тридцатидвухлетнего Ямани. Ямани в свою очередь, первым делом положил конец конфронтации Тарики с „Арамко“ и приступил к достижению тех же самых конечных целей – только с большей тонкостью и искусством, а также эффективностью. „Верните нам Тарики, с его демагогией и неистовством, – восклицал один из директоров „Арамко“. – Ямани своей мягкостью и аргументированными доводами прижимает нас к стенке“.
Ко времени объявления в 1973 году нефтяного эмбарго Ямани уже в течение одиннадцати лет был министром нефтяной промышленности и приобрел огромный опыт и мастерство в дипломатии, к тому же он обладал исключительным талантом вести переговоры. Говорил он спокойно, вполголоса, что заставляло оппонентов прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного его слова. Он почти никогда не терял самообладания: чем сильнее был его гнев, тем спокойнее он становился. Высокая риторика не была в его стиле. Говоря о чем‑либо, он всегда следовал законам логики, переходя от одного положения к другому, останавливаясь на каждом ровно столько, сколько было необходимо, чтобы выделить его суть, связи, императивы и последствия. Все сказанное становилось настолько просто и предельно убедительно, настолько поразительно очевидно и неоспоримо, что только сумасшедший или полный идиот мог с ним не согласиться. Такой метод изложения своей позиции действовал гипнотически, зачаровывая и обезоруживая одних и бессильную ярость вызывая у остальных.
Ямани с большим мастерством пользовался своей почти мистической силой, умением выжидать и своим немигающим взглядом. В нужных случаях он просто смотрел на собеседника, не произнося ни слова и лишь перебирал свои неизменные четки, пока собеседник, осознав свое поражение, не переходил к другой теме. Играя в шахматы, он всегда тщательно обдумывал положение противника и просчитывал свои ходы, которые должны были вывести его на желаемую позицию. Будучи искусным тактиком, мастером маневрирования, как того требовали краткосрочные задачи внутренней и внешней политики Саудовской Аравии, он тем не менее всегда стремился учитывать и долгосрочные перспективы, как это подобало представителю страны с небольшим населением, на долю которой приходилась одна треть всех мировых запасов нефти. „Как в общественной, так и в личной жизни, во всем, что я делаю, я всегда руководствуюсь долгосрочными перспективами, – сказал он однажды. – Как только вы начинаете думать категориями краткосрочных задач, вы уже в беде. Такое мышление – это тактика для достижения лишь ближайших результатов“. На западном мире, по его мнению, лежало проклятие – концентрация мышления на сиюминутных задачах, что являлось неизбежным результатом демократии. По природе Ямани был человеком осторожным, тщательно взвешивавшим каждый свой шаг. „Я не выношу азартных игр, – сказал он в 1976 году, находясь на вершине славы. – Да, я ненавижу их. Игры губят душу. Я никогда не был игроком. Никогда“. В нефтяной политике, утверждал Ямани, он никогда не делал ставку на игру. „Она всегда преднамеренный риск. Я всегда хорошо все просчитываю. И если уж я и иду на риск, это означает, что я предпринял все необходимое для сведения его до минимума. Практически до нуля“.
Личность Ямани вызывала бурную и не всегда однозначную реакцию. Большинство считало, что это блестящий государственный деятель, дипломат высшего класса, прекрасно разбирающийся во всем, что касается нефти, экономики и политики. „Он был превосходным стратегом, – сказал о нем один из тех, с кем он имел дело в течение двадцати пяти лет. – Он никогда не шел напролом к цели. Но никогда и не терял ее из виду“. На Западе Ямани стал воплощением власти ОПЕК и вообще всей той власти, которую дает нефть. Для многих западных лидеров он был разумным и влиятельным партнером в диалоге и притом самым знающим. Для многих представителей общественного мнения он был самым заметным, и поэтому подвергался критике и насмешкам больше всех других представителей стран‑экспортеров. В самой ОПЕК и в арабском мире некоторые ненавидели его, либо завидуя его известности и славе, либо считая, что он слишком близко стоит к Западу, либо же просто думая, что ему оказывают слишком большое внимание и уважение. Завистливые соперники и критики говорили, что его „переоценивают“. Одного из директоров“ Арамко“, часто имевшего с ним дело, больше всего другого поражала в нем способность сохранять „нарочитое спокойствие“.
В высказывании Киссинджера, который также часто встречался с Ямани, сквозили скрытое оскорбление и явная неприязнь: „Он казался мне исключительно сообразительным и знающим; он мог говорить со знанием дела на многие темы, в том числе и из области социологии и психологии. По своему происхождению он не мог в то время занять в своей стране место политического лидера – это была прерогатива принцев – а по своему таланту – вести жизнь рядового чиновника. Он выдвинулся на посту настолько существенном, насколько он был периферийным в осуществлении реальной политической власти в самом королевстве. Он стал преимущественно техническим исполнителем“.
Ямани был во всем человеком Фейсала, преданным королю, выбравшему его из всех остальных. Король в свою очередь относился к нему как к любимому протеже и награждал огромными земельными владениями, стоимость которых во время нефтяного бума колоссально возросла и которые являлись основой личного состояния Ямани. Близкие и доверительные отношения с королем обеспечивали Ямани полную свободу действий, хотя в конечном счете всегда под контролем Фейсала и всегда в пределах, определенных королевской семьей, в которой наиболее важным членом, после самого короля, когда речь шла о нефтяной политике, был его сводный брат, принц Фахд.
В марте 1975 года Ямани сопровождал нефтяного министра Кувейта на аудиенцию с королем Фейсалом. Вместе со всеми в небольшой тронный зал вошел и один из племянников Фейсала, и когда кувейтянин склонился перед королем, он выступил вперед и выстрелил несколько раз Фейсалу в голову, убив его практически мгновенно. Одни говорили, что это была месть за брата, который десять лет назад в знак протеста против введения в стране телевидения возглавил нападение фундаменталистов на телестудию и был убит. Другие считали, что этот молодой человек попал под пагубное влияние крайне левых. Третьи, что он был просто психически ненормален, что еще студентом в штате Колорадо, в США он обвинялся в продаже ЛСД и в момент убийства находился под влиянием наркотиков.
А в декабре того же года международный террорист Карлос, хорошо известный фанатик‑марксист из Венесуэлы, во главе группы из пяти человек совершил террористический акт в здании на Карл Люгер‑Ринг, где проходило совещание министров стран ОПЕК. В первые же минуты три человека были убиты, а остальные взяты в заложники. Террористы вывезли их сначала в Алжир, затем переправили в Триполи, затем снова в Алжир, ни на минуту не прекращая угроз покончить с ними. Снова и снова они повторяли, что двое из нихуже давно приговорены к смерти: иранский нефтяной министр Джамшид Аму‑зегар и Ямани – их главная цель и добыча. Во время перелетов Ямани в ожидании смерти лишь перебирал свои четки, произнося про себя суры Корана. Через сорок восемь часов после нападения в Вене испытание смертью закончилось, исполнение смертного приговора было отложено – заложников освободили, в том числе и Ямани. Некоторые считали, что какая‑то группировка одного из арабских правительств помогала террористам и, возможно, даже обещала им крупную сумму в качестве награды.
После событий 1975 года Ямани по вполне понятным причинам стали преследовать вопросы обеспечения безопасности. После убийства Фейсала у него уже не было той свободы действий, которой он пользовался прежде. Преемником Фейсала стал его сводный брат Халид, не производивший впечатление сильного короля и к тому же у него было больное сердце. Фахд стал наследным принцем и заместителем премьер‑министра. Он был главным лицом, определявшим нефтяную политику, и теперь ему подчинялся Ямани. Для внешнего мира Ямани по‑прежнему оставался фигурой номер один, но в Саудовской Аравии такой фигурой был осторожный и предусмотрительный принц Фахд – ему принадлежало последнее слово в политике. В своих официальных выступлениях Фахд давал ясно понять, что несогласие с повышением цен на нефть было позицией не только одного Ямани, а всей саудовской политики. Дальнейшее повышение цен, заявлял он, приведет к „экономическому бедствию“. В 1977 году на официальной встрече с президентом Картером в Вашингтоне Фахд пошел настолько далеко, что настойчиво убеждал американского президента оказать давление на две другие страны ОПЕК – Иран и Венесуэлу – чтобы не допустить дальнейшего повышения цен.
Временами политика саудовцев вызывала ярость других экспортеров и град злобных нападок, которые осторожно направлялись в адрес Ямани и не затрагивали королевскую семью. „Если вы послушаете иранское радио или почитаете иранские газеты, вы узнаете, что я – это сам дьявол“, – вздыхая, говорил Ямани. Одна из ведущих газет в Тегеране называла Ямани „марионеткой в руках капиталистических кругов и предателем не только своего короля и своей страны, но и всего „третьего мира“, в том числе и арабского“. А министр нефтяной промышленности Ирака заявил, что Ямани состоит „на службе у империализма и сионизма“. На такие высказывания невозмутимый Ямани обычно отвечал своей загадочной улыбкой и пристальным взглядом еемигающих глаз.
АМЕРИКАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Независимо от борьбы внутри ОПЕК, позиции Эр‑Рияда и Вашингтона по ценовому вопросу были одинаковы. При администрациях Никсона, Форда и Картера США последовательно выступали против повышения цен, считая, что с каждым разом оно еще более обостряет положение в мировой экономике. Но добиваясь снижения цен, Вашингтон не хотел прибегать к насильственным мерам. „Единственный путь радикально снизить цены – это начать широкомасштабную политическую войну против таких стран, как Саудовская Аравия и Иран, что в случае их отказа от сотрудничества заставит их рисковать своей политической стабильностью и, возможно, безопасностью, – пояснял в 1975 году Киссинджер, бывший во время администрации Форда государственным секретарем. – Это слишком дорогая цена, даже и для непосредственного снижения цен на нефть. Если в Саудовской Аравии это приведет с падению существующего строя и к власти придет новый Каддафи, или же будет разрушен имидж Ирана, как страны, способной противостоять давлению извне, то откроется путь для политических тенденций, которые похоронят все экономические задачи“. К тому же были некоторые опасения, что экспортеры нефти внезапно сами резко снизят цены и таким образом подорвут работы над дорогостоящими новыми проектами, как, например, в Северном море. В результате в Международном энергетическом агентстве обсуждался вопрос об установлении „минимальной безопасной цены“, которая обеспечила бы защиту дорогостоящих инвестиций по развитию энергетики в западном мире от резкого, возможно, вызванного политическими мотивами снижения мировых цен
Главной задачей Вашингтона было обеспечение стабильности, и он решительно выступал против дальнейшего повышения цен, опасаясь, что оно поддержит инфляцию, нанесет урон мировой системе платежей и торговли и замедлит темпы экономического роста. Перед каждым совещанием стран ОПЕК Соединенные Штаты засылали к заинтересованным сторонам многочисленных эмиссаров. Вооруженные кипами телеграмм с последними статистическими данными по инфляции и энергопотреблению, они вели энергичную работу против дальнейших повышений. Конечно, иногда из огромных соперничавших ведомств, формировавших и внешнюю, и внутреннюю политику США, поступали и крайне противоречивые указания. Временами саудовцы даже подозревали, что Соединенные Штаты, тайно договорившись с шахом о повышении цен, намеренно вводят их в заблуждение. На деле же Никсон, Форд и Киссинджер, учитывая присутствие других стратегических соображений, не хотели слишком сильно давить на шаха. Более того, в американской внутренней политике не было не только консенсуса, но и шла ожесточенная борьба, в результате которой в середине семидесятых годов энергетика стала политическим вопросом первого плана. Однако на международной арене главной задачей политики США было вернуть ценам стабильность и позволить инфляции снижать их. В погоне за такой стабильностью Вашингтон использовал все словесные средства убеждения, от умасливания и лести до осуждения и открытых угроз.
Использовались и другие, менее явные подходы. Стремясь установить предел росту цен и обеспечить дополнительные поставки, Вашингтон подумывал и о партнерстве в нефтяном бизнесе ни более, ни менее как с Советским Союзом. И Киссинджер занялся заключением сделки „баррель за бушель“, согласно которой Соединенные Штаты в обмен на свою пшеницу будут импортировать советскую нефть. В октябре 1975 года в Москве были подписаны предварительные договоренности. Вскоре после этого в Вашингтон прибыли советские официальные представители для проведения, как оказалось, весьма напряженных переговоров. Это был шанс Киссинджера одержать „победу“ в его политике американо‑советской разрядки, которая встречала все большую критику внутри страны и нуждалась в некоторых победах. К тому же это означало бы „поражение“ ОПЕК, несмотря на всю иронию использования советской нефти, чтобы вырваться из‑под ее власти.
После нескольких дней продолжительных обсуждений, в Вашингтоне наступил уик‑энд, и русские оказались без каких‑либо определенных дел. Для небольшой разрядки „Галф ойл“, у которой имелись сделки по нефти с СССР, на корпоративном самолете перебросила их в „Уолт Дисней уорлд“. Во время перелета во Флориду глава советской делегации рассказал, почему переговоры идут так трудно: Киссинджер настаивает на максимальном придании им гласности, желая поставить ОПЕК в затруднительное положение. Русские с удовольствием бы продали свою нефть, они были бы рады не тратить твердую валюту на покупку пшеницы, но сделка должна остаться если не секретной, то уже по крайней мере полностью незамеченной – они не могут позволить себе у всех на глазах подрывать позиции ОПЕК и национальные интересы стран „третьего мира“. Существовала также и проблема расчетов. Киссинджер настаивал, чтобы американская пшеница оценивалась по мировым ценам, тогда как советская нефть – на двенадцать или даже более процентов ниже мировых нефтяных цен. На вопрос о причине такого неравенства американцы ответили, что их пшеница имеет уже сформировавшийся рынок, а у советской нефти такого рынка нет и чтобы его завоевать, СССР должен идти на скидки. В итоге сделка не состоялась. Зато советские представители прекрасно провели время в „Диснейленде“.
Стремление к стабильности цен ставило американцев на путь столкновения с Ираном. Ведь именно шах был самым громогласным и влиятельным из ценовых ястребов, и Соединенные Штаты периодически убеждали его изменить свою ценовую политику. Однако стоило президенту Форду выступить с критикой повышения цен, как шах не замедлил с ответным ударом. „Никто не может диктовать нам. Никто не смеет грозить нам пальцем – в ответ мы сделаем то же самое“. Конечно, Иран не менее, чем Саудовская Аравия был политически и экономически привязан к Соединенным Штатам. Тем не менее, когда государственные министры, бизнесмены и торговцы оружием толпами прибывали в Тегеран, и когда шах продолжал отчитывать западное общество за его слабости и пороки и грозить ему всяческими бедами, некоторые в Вашингтоне задавались вопросом, кто был чьим клиентом.
В начале семидесятых годов Никсон и Киссинджер дали шаху „карт‑бланш“ в покупке американских систем вооружений, даже самых новейших, правда, за исключением ядерных. Это входило в „стратегию двух атлантов“, принятую в целях обеспечения региональной безопасности после ухода Великобритании из Персидского залива. Атлантами были Иран и Саудовская Аравия, но Иран, как заметил один американский политик, был явно „главной опорой“, и к середине семидесятых годово на его долю приходилась половина всех продаж американского оружия за границей. Неограниченная свобода закупок оружия вызывала тревогу в министерстве обороны – с его точки зрения, Ирану нужна была сильная армия, с обычными видами вооружений, а отнюдь не с ультрасовременными системами, которые ему трудно освоить и которые могут оказаться в руках у русских. Министр обороны Джеймс Шлесинджер лично предупредил шаха, что у Ирана нет технических возможностей освоить такое огромное число новых и сложных систем. „В Ф‑15 он был просто влюблен“, – сказал Шлесинджер. И если шах обычно отмахивался от всех предупреждений, то в отношении Ф‑15 он послушался совета и отказался от его покупки.
Резкая критика шла и со стороны министра финансов Уильяма Саймона. „Шах, – сказал он однажды, – просто помешан“. Неудивительно, что шах воспринял это как оскорбление, и Саймон быстро извинился: его слова были выр ваны из контекста, он говорил „помешан на нефтяных ценах“, имея в виду „был влюблен“, как, например, иногда говорят „быть помешанным на теннисе или гольфе“. В это время американский посол в Тегеране был в отъезде, и неприятная миссия объяснять значение слов Саймона досталась временному поверенному. Он повторил извинения Саймона министру двора, на что тот ответил, что „Саймон, возможно, и хороший торговец облигациями, но в нефти он ничего не смыслит“. А шах, как говорят, сказал, что он знает английский язык не хуже министра финансов и отлично понимает „что именно имел в виду мистер Саймон“.
Все же при всех интригах и критике во время президентства Никсона и Форда удерживался определенный консенсус. Иран был необходимым союзником, игравшим главную роль в обеспечении безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, и престиж и влияние шаха никоим образом не следовало подрывать. Помимо личного расположения к шаху, у Никсона, Форда и Киссинджера имелись и стратегические расчеты. В 1973 году он не ввел нефтяное эмбарго для Соединенных Штатов, а теперь мог сыграть ключевую роль в геополитической стратегии. Саудовцы, говорил Киссинджер коллегам, это – „кошечки“. А с шахом можно обсуждать вопросы геополитики: ведь у Ирана и Советского Союза общая граница.
В 1977 году с приходом в Белый дом Джимми Картера у шаха возникли основания для беспокойства. По словам британского посла в Тегеране, „расчетливый оппортунизм Никсона и Киссинджера гораздо больше устраивал шаха“; теперь же два главных направления политики Картера – соблюдение прав человека и ограничение на продажу оружия – непосредственно угрожали шаху. Однако новая администрация сохранила прошаховскую ориентацию своих предшественников. Как позднее писал Гари Сик, бывший при Картере советником по ближневосточным вопросам в Совете национальной безопасности, „у Соединенных Штатов не было готовой стратегической альтернативы сохранению близких отношений с Ираном“.
Сближению способствовало и изменение позиции шаха в вопросе о ценах на нефть. К тому времени, когда Картер обосновался в Белом доме, шах уже сомневался в необходимости дальнейшего повышения цен. Фанатичность и эйфория, поток нефтедолларов и сам нефтяной бум разрушали структуру иранской экономики и всего иранского общества. Результаты были уже налицо: хаос, расточительство, инфляция, коррупция, а также усиление политической и социальной напряженности, расширявшее ряды растущей оппозиции. Росло и число противников насаждавшейся шахом Великой цивилизации.
В конце 1976 года шах удрученно подвел итоги: „Мы получили деньги, которые не можем потратить“. Деньги, теперь он был вынужден признать, не являются лекарством, а скорее причиной бедствий страны. Повышение цен ему не поможет, так что зачем затевать конфликт с Соединенными Штатами, особенно теперь, когда с приходом Картера ему более, чем когда‑либо, необходимо укреплять отношения с Америкой?! На первых порах администрация Картера решила следовать „наступательной тактике замораживания цен“, как основной линии в политике США. Но после визита в Тегеран в мае 1977 года госсекретаря Сайруса Вэнса, заверившего шаха, что Соединенные Штаты вовсе не намерены отказаться от поддержки Ирана, иранское правительство, к удивлению всех экспортеров и даже собственных политиков, выступило за сохранение умеренности цен на нефть. А во время неофициальной встречи с министром финансов Майклом Блюменталем шах даже сказал, что Иран „не хочет, чтобы его считали ястребом в политике цен“. Понял ли шах тенденции наметившихся на рынке перемен? И действительно ли главный „ценовой ястреб“ стал „голубем“?
В ноябре 1977 года шах отправился в Вашингтон для встречи с Картером. В тот самый момент, когда шах прибыл в Белый дом, за оградой возникло настоящее сражение между сторонниками и противниками шаха, главным образом обучавшимися в США студентами. Полиция, применив слезоточивый газ, разогнала демонстрантов. Но пары слезоточивого газа дошли и до Южной лужайки, где президент приветствовал шаха. Картер начал моргать и тереть глаза, а шах носовым платком вытирал бежавшие по щекам слезы. Этот эпизод был показан во всех выпусках последних известий не только по американскому телевидению. Благодаря новой либерализации иранцы увидели своего монарха не в столь величественном виде, что ранее было абсолютно исключено. Плачущий шах, а также сам факт демонстраций убедили некоторых иранцев в том, что Соединенные Штаты предполагают отказаться от поддержки Мохаммеда Пехлеви. Почему бы еще, рассуждали они, не зная американскую систему, Картер „позволил“ такие демонстрации?
Во время неофициальных бесед Картер упирал на необходимость соблюдения прав человека и стабильности в ценах на нефть. Шах понял, что Картер предлагает сделку: поддержка Саудовской Аравии в вопросе о ценах в обмен на продолжение потока оружия из Соединенных Штатов и отказ от давления по соблюдению прав человека. При этом Картер всемерно подчеркивал „изматывающее влияние растущих цен на экономики промышленных стран“. Отказавшись от позиции, которую он занимал с конца 1973 года, шах принял условия и обещал убедить другие страны ОПЕК „дать странам запада передышку“.
Теперь Иран выступал вместе с Саудовской Аравией за установление умеренных цен. На долю этих двух стран приходилось 48 процентов производимой странами ОПЕК нефти, и они могли оказывать давление на других экспортеров, так что контроль над ценами был установлен. Так закончилось сражение между шахом и саудовцами. Шах был побежден. На протяжении пяти лет, с 1974 по 1978 год, страны ОПЕК приняли только два небольших повышения: с 10,84 доллара, принятого в Тегеране в декабре 1973 года, до 11,46 в 1975 году и до 12,70 доллара в конце 1977 года. Но темпы инфляции опережали рост цен, и, как это и ожидалось, она размывала реальную цену. К 1978 году с учетом инфляции цена на нефть была на 10 процентов ниже, чем после отмены эмбарго в 1974 году. Короче говоря, при ограничении повышений только этими двумя случаями реальная цена на нефть фактически несколько упала. Нефть никоим образом уже не была дешевой, но и цены на нее, как многие опасались, не взлетели до небес.
КУВЕЙТ И „НАШИ ДРУЗЬЯ“
Экспортерам нефти уже больше не приходилось вести с кем‑либо переговоры о ценах на нефть – теперь они договаривались только между собой. Однако еще оставались концессии, напоминавшие о временах, когда компании правили бал и когда экспортеры были бедны. Само существование концессий, говорили те перь экспортеры, это унижение. В Иране концессия была сметена осуществленной Масаддыком национализацией в 1951 году. Ирак завершил национализацию, ликвидировав концессию „Иракской нефтяной компании“ в 1972 году. И если некоторые большие концессии и выжили после шока, вызванного повышением цен в 1973 году, то ликвидация последних из них – в Кувейте, Венесуэле и Саудовской Аравии – ознаменовала бы окончательную кончину этой системы двадцатого века, начало которой положили в 1901 году смелые и рискованные договоренности Уильяма Нокса Д'Арси с Персией.
Концессии в Кувейте предстояло пасть первой. В 1934 году „Бритиш петролеум“ и „Галф“ с целью прекращения конкуренции между собой, которая подогревалась неугомонным майором Фрэнком Холмсом и обострялась в результате неуступчивости бывшего посла в Англии Эндрю Меллона, образовали „Кувейт ойл компани“. Через сорок лет, в начале 1974 года, Кувейт приобрел 60 процентов финансового участия в „Кувейт ойл“, оставив „Бритиш петролеум“ и „Гал‑фу“ 40 процентов. Затем, в начале марта 1975 года, Кувейт объявил, что он забирает и эти последние 40 процентов и отказывается от особых отношений с „Бритиш петролеум“ и „Галфом“. Отныне к ним будут относиться как ко всем другим покупателям. „А что произойдет, если „Бритиш петролеум“ и „Галф“ не согласятся на условия Кувейта?“ – „Ничего особенного – мы скажем вам „спасибо“ и „прощайте“, – ответил министр нефтяной промышленности Кувейта Аб‑дель Маталеб Каземи. – Наша задача – приобрести полный контроль над своими нефтяными ресурсами. Нефть – это главное богатство Кувейта“.
В Эль– Кувейт срочно прибыли Джеймс Ли от „Галфа“ и Джон Сатклифф от „Бритиш петролеум“. „Наши давние взаимоотношения требуют возмещения“, – сказал Сатклифф нефтяному министру. „Никакой компенсации не будет“, – категорически заявил министр. На встрече с премьер‑министром Ли и Сатклифф кратко напомнили о том, как в результате борьбы за ренту с годами менялось распределение прибыли – с 50 на 50 в начале шестидестятых и до теперешнего соотношения 98 процентов для правительства и 2 процента для компаний. Теперь они надеялись добиться какого‑то более или менее приличного соглашения. Но им было сказано, и причем очень твердо, что Кувейт будет получать все сто процентов, что это вопрос суверенитета и что обсуждать это далее не имеет смысла.
В течение нескольких месяцев между Кувейтом и двумя компаниями, не оставлявшими надежды удержаться и получить хоть какие‑то преимущества в доступе к нефти, шла борьба. В какой‑то момент ведущий переговоры от имени „Бритиш петролеум“ П.И. Уолтере, полушутя, сказал кувейтянам, что им было бы гораздо выгоднее вложить часть своих новых нефтедолларов в акции „Бритиш петролеум“, а не приобретать материальные активы „Кувейтской нефтяной компании“. Кувейтяне не проявили к этому интереса, по крайней мере, в то время. Наконец, в декабре 1975 года обе стороны пришли к соглашению – на условиях Кувейта. „Галф“ и „Бритиш петролеум“ просили в качестве компенсации 2 миллиарда долларов. Услышав это, кувейтяне рассмеялись. Компании получили лишь крохотную часть запрошенной суммы – 50 миллионов долларов.
После заключения сделки компании все еще продолжали считать, что они сохранят преимущества в доступе к нефти. Надеялся на это и Герберт Гудмен, президент „Галф ойл трейдинг компани“, отправляясь в сопровождении небольшой группы в Эль‑Кувейт для урегулирования, как он полагал, отдельных деталей в новых взаимоотношениях. Прибыв в Эль‑Кувейт, Гудмен мгновенно понял, как многое изменилось. И не то, чтобы его можно было обвинить в какой‑то наивности. Он был одним из опытнейших в мире людей в области поставок и торговли нефтью. На примере его карьеры можно было проследить бурный рост и экспансию международных компаний на всем протяжении шестидесятых годов. Бывший сотрудник иностранной службы госдепартамента США, перешедший в 1959 году в „Галф“, Гудмен заслуживал места в любом зале славы, посвященном нефти; за четыре года работы в Токио он отличился, продав по долгосрочным контрактам с японскими и корейскими покупателями свыше миллиарда баррелей нефти. Шестидесятые годы были годами его славы и как нефтяника, и как работавшего за границей американца. „Тогда перед американским бизнесменом открывались колоссальные возможности, безграничный доступ повсюду, – вспоминал он. – Вы воспринимали это как должное. Вас всюду встречало внимание. Уважение к вашей надежности, влиянию и силе. Почему? Да потому, что это была торговля, шедшая за флагом победившей страны – огромное доверие и уважение, которыми пользовались Соединенные Штаты. Американский паспорт был своего рода пропуском, охранной грамотой. Затем все это начало постепенно пропадать. Я ощущал это повсюду. Это был упадок американской силы, отступление, подобное отходу римлян от оборонительных валов Адриана. Я видел это, скажу вам. во всем“. Затем подошло время нефтяного эмбарго, повышения цен, позора и отставки Никсона и поспешного ухода американцев из Вьетнама. И вот теперь, в 1975 году, Гудмен находился в Эль‑Кувейте, где кувейтяне также утверждали, что прежней эре наступил конец.
Все же Гудмен, как и приехавшие с ним исполнительные директора, ожидали, что „Галф“ получит что‑то в виде особых цен или преимуществ, учитывая сложившиеся за полстолетия отношения, подготовку молодых кувейтян, приезжавших в Питтсбург и живших в семьях сотрудников „Галфа“, все оказанное им гостеприимство, личные отношения и связи. Но нет, к удивлению Гудмена, ему было сказано, что к „Галфу“ будут относиться наравне с другими покупателями. Более того, кувейтяне заявили, что „Галф“ получит нефть только в том объеме, который необходим для его собственных нефтеперерабатывающих заводов, а отнюдь не для перепродажи третьим сторонам в Японии и Корее. Но это же их рынки, возразил Гудмен, которые „Галф“ создал своей кровью и потом. В их создание были вложены и его энергия, и его труд. Нет, ответили кувейтяне, это их рынки, существующие за счет их нефти, и свою нефть они будут продавать на них сами.
Представители „Галфа“ не могли не заметить, как по сравнению с прежними временами изменилось к ним отношение. „Каждый день мы шли из своей гостиницы в министерство – и ждали. Так продолжалось день за днем, – рассказывал Гудмен. – Иногда к нам выходил какой‑нибудь мелкий чиновник. Иногда – нет“. Однажды во время обсуждения Гудмен решил напомнить кувейтскому представителю об истории их отношений – по крайней мере, как он и как „Галф“ ее видели – о том что сделал „Галф“ для Кувейта. Кувейтянин пришел в ярость: „За все, что вы сделали, вы получили с лихвой, – сказал он. – Вы никогда не учитывали наши интересы“. – И он покинул совещание. В итоге, „Галер“ получил очень небольшую скидку на нефть, идущую в его вертикаль, и отказ от скидок на нефть, которую он мог бы перепродать. „Для кувейтян это было ниспровержение колониальной власти, – впоследствии сказал Гудмен. – С той стороны было непонимание. С этой, самомнение и тщеславие американцев, уверенность в том, что нас любят, потому что мы так много сделали для этих людей. Это была американская наивность. Мы считали, что у нас хорошие отношения. Они же стояли на другой позиции. Они всегда ощущали, что к ним относятся свысока. И они это помнили. Все отношения такого рода всегда являются отношениями любви и ненависти“.
„Все же, это было преходящим – добавил он. – Дело в том, что просто они стояли на пороге ожидавшего их огромного богатства“.
ВЕНЕСУЭЛА: КОШКА СДОХЛА
Огромные концессии в Венесуэле также доживали свои последние дни. В начале семидесятых годов годов дальнейший ход событий уже не вызывал сомнения. Ведь это была страна, где жил и работал Хуан Перес Альфонсо, сторонник национализации нефтяной промышленности и один из основателей ОПЕК. В 1971 году Венесуэла приняла „закон о возврате“, согласно которому все концессии нефтяных компаний и все их активы по истечении сроков договоренностей перейдут в собственность государства – при ограниченной выплате компенсаций. Сроки эксплуатации первых концессий истекали в 1983 году. Экономический результат закона о возврате и политики под лозунгом „нет новым концессиям“ был неизбежен: компании снизили инвестиции, и это означало, что производственные мощности Венесуэлы сокращались. Спад производства, со своей стороны, неизбежно подогревал националистические настроения и враждебное отношение к компаниям. „Это напоминало вопрос о том, что было раньше – курица или яйцо, – вспоминал Роберт Дольф, президент „Креол петролеум“, дочерней компании „Экссон“ в Венесуэле. – Политика правительства была такова, что новых участков для разведочных работ не предоставлялось. Так что мы перестали кормить кошку, а они стали жаловаться, что кошка подыхает“.
К 1972 году уже был принят ряд законов и указов, предоставлявших правительству реальный административный контроль на всех этапах производства, от разведки до сбыта. До 96 процентов была повышена фактическая ставка налогового обложения. Таким образом, многие задачи национализации правительство осуществило еще до ее объявления. Но само принятие национализации было лишь вопросом времени. Повышение цен в 1973 году и очевидные победы ОПЕК очень скоро укрепили националистические настроения и уверенность в своих силах, ускорив последние шаги к ней. С приходом новой эры в отношениях между экспортерами и импортерами ожидание наступления 1983 года казалось слишком долгим. Присутствие иностранной собственности представлялось далее нетерпимым и национализацию следовало осуществить по возможности скорее. На этом мнении сходились практически все политические фракции.
Вскоре последовали два раунда переговоров. Один – с международными компаниями „Экссон“ и „Шелл“, затем с „Галф“ и рядом других компаний. Другой – только между самими венесуэльцами. В первом раунде переговоры шли не гладко. „В конце 1974 года в стране все еще шли бурные дебаты по вопросу о национализации нефти, – сказал один их участник. – Мнения резко расходились: одни выступали за прямую конфронтацию с иностранными компаниями, другие предпочитали мирное решение вопроса путем переговоров“. На лужайке своего дома Хуан Перес Альфонсо энергично выступал в поддержку сторонников конфронтации, заявляя, что в Венесуэле должны быть немедленно национализированы не только нефтяная промышленность, но и все иностранные финансовые активы.
Все же процесс урегулирования проходил спокойнее, чем можно было ожидать, что частично объяснялось позицией компаний, проявивших реалистический подход. Некоторые назвали бы его даже фатализмом. В прежние годы из Венесуэлы поступала значительная часть их прибылей, а в какой‑то период и половина всего мирового дохода „Экссон“. Здесь можно было при желании добиться руководящих постов если необязательно в „Экссон“, то в „Шелл“, сделать карьеру. Но с приходом новой эры у компаний не было никаких возможностей сопротивляться. Главным для них стало сохранить доступ к нефти. „Мы не могли победить“ – говорил президент „Креол“ Дольф. – Цены были устойчивы, рыночная конъюнктура придавала смелости всем странам, которые полагали, что так будет продолжаться вечно. И, кроме того, фактически осуществленная национализация оставляла нам очень мало возможностей для маневрирования“.
После объявления национализации нефтяной промышленности перед Венесуэлой встали две проблемы. Первой было сохранить приток извне оборудования и ноу‑хау для обеспечения возможно более высокой эффективности и современного уровня отрасли. Компании заключили с Венесуэлой сервисные контракты, согласно которым в обмен на постоянную передачу передовых технологий и обеспечение специалистами бывшие владельцы концессий получали 14–15 центов за баррель. Второй проблемой было получение доступа на рынки сбыта, – национализированная отрасль производила огромный объем нефти, но своей системы сбыта за пределами страны у Венесуэлы не было, а нефть надо было продавать. Бывшим концессионерам нефть для их нисходящих систем распределения была по‑прежнему необходима, и с Венесуэлой были заключены долгосрочные контракты по поставкам нефти на рынок. В первый же год после национализации „Экссон“ и Венесуэла подписали контракт по поставкам нефти, который на эту дату считался самым крупным в мире – на 900000 баррелей в день.
Гораздо более трудным и эмоционально напряженным был второй раунд переговоров – между политиками и нефтяниками Венесуэлы. В нефтяной промышленности работали уже два поколения венесуэльцев, и к этому времени 95 процентов всех рабочих мест, в том числе и командного уровня, занимали венесуэльцы. Многие из них прошли подготовку за границей и приобрели опыт, работая в транснациональных монополиях. И они, в общем, считали, что по отношению к ним какой‑либо дискриминации не было. Теперь вопрос сводился к следующему: станет ли нефтяная отрасль страны, от которой зависели доходы правительства, в основном какой‑то политической структурой, с программой, устанавливаемой политиками, и зависящей от распределения сил во внутренней политике. Или же государственной структурой, управляемой деловыми кругами, с учетом долгосрочных перспектив и с программой, которую будут определять нефтяники. За этим вопросом, конечно, стояла борьба за власть и главную роль в национализированной нефтяной отрасли Венесуэлы, а равно и битва за будущее национальной экономики. Решение этого вопроса определил ряд известных стратегических соображений. От нефтяной промышленности и ее жизнедеятельности зависело общее экономическое благосостояние страны. И в Каракасе опасались, что возникнет „еще один „Пемекс“ – такая же чрезвычайно сильная государственная компания как „Петролеос Мехиканос“, которая была неподвластна какому‑либо влиянию и являлась государством в государстве. Или же результатом явится, что вызывало не меньшие опасения, ослабленная, политизированная и коррумпированная нефтяная промышленность, что крайне отрицательно скажется на всей экономике Венесуэлы. На решение проблемы также влиял и тот факт, что не только во всех венесуэльских компаниях, но и на самом верху работало большое число опытных и высококвалифицированных специалистов‑нефтяников. В случае политизации отрасли они просто могут собрать свои вещи и покинуть страну.
В такой ситуации президент Карлос Андрее Перес – с огромным перевесом недавно одержавший победу кандидат от партии „Демократическое действие“ – сделал выбор в пользу „умеренного“ и прагматичного решения, учитывавшего участие и самой нефтяной отрасли. Была создана государственная холдинговая компания – „Петролеос де Венесуэла“, – известная как „ПДВСА“, которой предстояло играть главную роль в вопросах финансирования, планирования и координации, а также выступать в качестве буфера между политиками и нефтяниками. Также на базе существовавших до национализации организаций был создан ряд производственно‑сбытовых предприятий, число которых после слияния сократилось, вначале до четырех, а затем до трех. Каждое из них было полностью интегрированной нефтяной компанией со своей вертикалью вплоть до собственных бензоколонок. Такое подобие конкуренции, как надеялись, должно было обеспечить эффективность и предотвратить рост огромной бюрократической государственной компании. Кроме того, такая структура способствовала сохранению различных аспектов корпоративной культуры, традиций, стремлению к эффективности и корпоративному духу, чувства принадлежности к организации, что обычно повышает деловую активность. В первый день 1976 года нефтяная промышленность была национализирована. Президент Перес назвал это решение „актом доброй воли“. Вскоре этой самой новой национализированной нефтяной компании предстояло стать главной силой в новом мире нефтяной промышленности.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: ЛИКВИДАЦИЯ КОНЦЕССИИ
Теперь осталась лишь крупнейшая из всех прежних концессий – „Арамко“ в Саудовской Аравии. Со времени трудного для Саудовской Аравии периода в начале 1930‑х годов, когда обедневший король Ибн Сауд больше нуждался в разведке водных ресурсов, чем нефти, „Арамко“ превратилась в огромный экономический комплекс. В июне 1974 года Саудовская Аравия, пользуясь достигнутым Ямани принципом участия, получила в „Арамко“ 60 процентов доли. Однако к концу этого года саудовцы заявили американским компаниям „Арамко“ – „Экссон“, „Мобил“, „Тексако“ и „Шеврон“ – что 60 процентов явно недостаточно, они хотят все 100 процентов. Располагать меньшим в новый век национализации было унизительно. Компании решительно воспротивились. Ведь их главной установкой было „никогда не отказываться от этой концессии“. Она была самой ценной в мире. Несмотря на то, что указанная позиция не могла противостоять политическому давлению середины семидесятых годов, компании пытались по крайней мере заключить наиболее выгодное для себя соглашение. Саудовцы, со своей стороны, проявляли не меньшую настойчивость, желая получить то, к чему они стремились, и прибегали к экономическому давлению. В конечном счете компании уступили и согласились на требование саудовцев – в принципе.
Однако чтобы принцип стал реальностью, потребовалось полтора года, которые ушли на споры между сторонами по вопросам технического и финансового характера. Эти переговоры по оценке собственности, по меньшей мере, на одну треть разведанных запасов нефти в западном мире были напряженными и трудными. К тому же они шли с перерывами и в разных местах. В 1975 году в течение месяца представители „Арамко“ вели переговоры с Ямани в Бейт‑Мери, небольшом городке в горах неподалеку от Бейрута. Каждое утро, выйдя из своей гостиницы, они шли вниз по маленькой улочке в старый монастырь, который Ямани превратил в одну из своих резиденций. Там они обсуждали вопрос о том, как оценить чрезвычайно важные ресурсы и как сохранить доступ к нефти. Затем до них дошел слух, что какая‑то группа террористов собирается то ли убить их, то ли взять в заложники, и внезапно маленькая улочка, казавшаяся такой оригинальной и экзотичной, стала опасной. Они тут же покинули городок и после этого вели переговоры, следуя за Ямани в его поездках по всему миру.
Наконец в Эр‑Рияде весенней ночью 1976 года в апартаментах Ямани в отеле „Эль‑Ямама“ они пришли к соглашению. В этом же городе сорок три года назад „Стандард ойл оф Калифорния“ неохотно согласилась заплатить аванс в 175000 долларов за право вести разведку нефти в девственной пустыне, и Ибн Сауд приказал подписать документ о предоставлении первой концессии. К 1976 году разведанные запасы нефти в этой пустыне составляли по предварительным подсчетам 149 миллиардов баррелей – свыше четверти всех запасов западного мира. И теперь от концессии приходилось отказаться, раз и навсегда. „Это был действительно конец целой эпохи“, – сказал один из американцев, присутствовавший в ту памятную ночь в отеле „Эль‑Ямама“.
Но соглашение никоим образом не означало разрыва связей, обе стороны были нужны друг другу. Это был тот самый старый вопрос, который прежде привел к объединению партнеров „Арамко“. У саудовцев была нефть, которой хватит на несколько поколений, а у четырех компаний – огромная и развитая система сбыта. В соответствии с новым соглашением Саудовская Аравия забирала в собственность все активы и права „Арамко“ в своей стране. „Арамко“ могла продолжать нефтедобычу и оказывать услуги Саудовской Аравии, за что она будет получать 21 цент за баррель. Взамен она брала обязательство продавать 80 процентов саудовской нефтедобычи. В 1980 году Саудовская Аравия выплатила „Арамко“ компенсацию, исходя из чистой балансовой стоимости, за все ее промыслы на территории королевства. На этом солнце огромных концессий закатилось. Производители нефти достигли своей главной цели: они приобрели полный контроль над своими нефтяными ресурсами. Теперь лишь одно упоминание об этих государствах уже ассоциировалось с хозяевами нефти. С соглашением между Саудовской Аравией и четырьмя компаниями „Арам‑ко“ происходила, однако, одна странная вещь. Саудовцы не подписывали его до 1990 года, в течение четырнадцати лет после того, как оно было заключено. „Это было очень практично с их стороны, – сказал один из руководителей компании. – Они получили то, к чему стремились, то есть полный контроль, но они не хoтели порывать с „Арамко“. На бывшей концессии было добыто и продано примерно 33 миллиарда баррелей нефти и реализованы сделки на свыше 700 миллиардов долларов. И все это за четырнадцать лет в условиях, как сказал один из директоров „Арамко“, „полной неопределенности положения“.
На первых порах контракты по поставкам все еще связывали нефтяные компании с их бывшими концессиями в Саудовской Аравии, Венесуэле и Кувейте, но со временем эти связи ослабли в результате политики диверсификации, которую осуществляли и страны, и правительства, а также после появления на рынке новых возможностей и альтернативных связей. Более того, одновременно с ликвидацией „великих концессий“ между странами‑экспортерами и нефтяными монополиями возникал новый тип взаимоотношений. Перестав быть собственниками концессий, обладающими правом собственности на запасы нефти в недрах, компании теперь становились просто „подрядчиками“, работающими по контрактам на компенсационных условиях, что давало им право получать определенную долю с любого открытого ими фонтана нефти. Пионерами в этом новом виде отношений выступили в конце шестидесятых годов Индонезия и сбытовая компания „Калтекс“. „Услуги“ монополий оставались прежними: они вели разведку, добычу и сбыт. Но переход к другой терминологии отражал крайне важную новую политическую реальность: суверенитет страны признавали обе стороны в той мере, в какой это было приемлемо во внутренней политике этих стран. Сохранявшаяся аура колониального прошлого была рассеяна – ведь компании присутствовали в странах‑экспортерах просто в качестве наемных рабочих. К концу семидесятых годов такие контракты на компенсационных условиях становились обычным явлением во многих регионах мира. Тем временем объем нефти, продававшейся непосредственно экспортерами – без участия компаний в их традиционной роли посредника и соответственно лишившихся своих доходов – резко повысился, увеличившись в пять раз, с 8 процентов от общего объема производства стран ОПЕК в 1973 году до 42 процентов в 1979 году. Другими словами, государственные компании стран‑производителей входили в международный нефтяной бизнес за пределами своих стран.
Таким образом, при абсолютной власти ОПЕК мировая нефтяная промышленность приобрела за пять лет совершенно новые очертания. Тем не менее впереди ее ожидали драматические перемены.
ГЛАВА 32. АДАПТАЦИЯ
Означал ли конец потока дешевой нефти печальный финал эры углеводородного человека? Хватит ли у него денег, чтобы покупать нефть для своих машин и для обеспечения всех тех материальных благ, которыми он так дорожил в своей повседневной жизни? В пятидесятые и шестидесятые годы дешевая и безотказно поступавшая нефть обеспечивала экономический рост и таким образом косвенно способствовала сохранению социального мира. Теперь высокие цены и ненадежность поставок, по‑видимому, замедлят или даже остановят его. Никто не знал, как это скажется на социальной сфере и в политике. Тем не менее перспективы вырисовывались мрачные. Печальные десятилетия между двумя мировыми войнами показали, насколько важна роль экономического роста в жизнеспособности демократических институтов. Ранее экспортеры нефти жаловались, что нефть ущемляет их суверенитет. После 1973 года об этом говорили уже индустриальные страны: их власть ослабевала и подвергалась нападкам, возникала угроза безопасности, возможности внешней политики были ограничены. В глобальной политике сама суть власти, казалось, была размыта в результате ее полного сращивания с нефтяным бизнесом. Неудивительно, что все семидесятые годы для человека углеводородной эры и для всего мира в целом стали временем озлобленности, тревоги, напряженности и устойчивого пессимизма.
Тем не менее человек углеводородной эры не хотел так легко расставаться с благополучием послевоенного периода, и новая реальность вызвала к жизни процесс широкомасштабной адаптации. Международное энергетическое агентство (МЭА) не превратилось в инструмент конфронтации, как предсказывали французы, а, наоборот, скорее стало средством координации между западными странами и ориентирования их энергетической политики в одном направлении. Были разработаны механизмы действия программы распределения энергоносителей на случай чрезвычайного положения, а также планы создания контролируемых правительствами стратегических резервов нефти для восполнения нехватки при срыве поставок. Помимо этого МЭА стала и платформой для дискуссий по оценке политики государств и по научно‑исследовательским разработкам в области обычных и новых энергоносителей.
В середине семидесятых годов главная цель западного мира сводилась, как выразился Киссинджер, к изменению тех „объективных условий“ рынка, на основе которых складывалась власть нефти – т. е. баланса спроса и предложения и полной зависимости промышленных экономик от нефти. В ответ на возросшие цены и необходимость обеспечить безопасность практически все индустриальные страны начали проводить энергетическую политику, направленную на сокращение зависимости от импорта нефти. Стремясь изменить эти „объективные условия“, каждая из главных стран‑потребителей, в зависимости от своей политической культуры и своих особенностей, пошла по собственному, характерному для нее пути: японцы нашли консенсус между общественными и частными интересами; французы – использовали традицию государственного регулирования; а Соединенные Штаты начали свои обычные политические дебаты, в которых отражались интересы различных групп влияния. Однако при всех этих различиях, элементы, необходимые для отпора новой нефтяной власти, были одни и те же: использование альтернативных энергоносителей, поиски других источников нефти и энергосбережение.
ОТВЕТ СТРАН
После паники и шока, последовавшими за нефтяным эмбарго, Япония приступила к подготовке ответных мер. Министерство международной торговли и промышленности (ММТП) выступило со своего рода личным „почином“: оно сократило работу лифтов в своем главном административном здании. Чтобы снизить расход электроэнергии на кондиционирование в летние месяцы, в качестве одной из главных мер ввели новое направление в мужской одежде: „сене рикку“, или „энергосберегающий стиль“ – деловые куртки с короткими рукавами. И если с сокращением работы лифтов как‑то смирились, то новые костюмы, хотя за них ратовал сам премьер‑министр Масаёси Охира, так и не стали популярны.
Ожесточенная борьба развернулась в Японии за лидерство в принятии решений по энергетике. Тем не менее в каждом измерении намечались резкие смены подходов, которые с начала шестидесятых основывались на доступе к дешевой и регулярно поступавшей ближневосточной нефти. Теперь нефть перестала быть и дешевой, и регулярно поступавшей, и уязвимость Японии снова проявилась с полной силой. Ответная реакция и меры, связанные с переменами, получили широкую поддержку, и начался процесс их реализации. Сюда входили: перевод выработки электроэнергии и промышленного производства с нефти на другие энергоносители, быстрейшее развитие ядерной энергетики, расширение импорта угля и сжиженного природного газа, а также расширение диапазона источников импорта нефти по другую сторону от Ближнего Востока, ближе к берегам Тихого океана. А в связи с тем, что Япония усиленно обхаживала производителей и поставщиков нефти одновременно на Ближнем Востоке и в районе Тихого океана, в ее внешней политике на первый план вышла „ресурсная дипломатия“.
Однако ни одна из этих мер не была столь целеустремленной и не принесла столь быстрых результатов как объединенные усилия правительства и деловых кругов по энергосбережению в промышленности и, в частности, по сокращению использования нефти. Успех этой кампании намного превзошел ожидания и сыграл ключевую роль в восстановлении конкурентоспособности японскогобизнеса. Принятые меры фактически явились примером для всего остального индустриального мира. „После 1973 года и рабочие, и предприниматели отнеслись к ним с пониманием, – вспоминал бывший тогда вице‑министром ММТП Наохиро Амая. – Они опасались ликвидации своих компаний и в полном согласии следовали им“. В 1971 году ММТП подготовило доклад о необходимости перехода от „энергоемкой“ к „наукоемкой“ промышленности – были велики опасения, что чрезмерные темпы роста потребления нефти в Японии приведут к нежелательным последствиям на мировом нефтяном рынке. В отраслях тяжелой промышленности доклад был встречен без большого восторга, поскольку в свете изложенного, ситуация в них представлялась наиболее неблагоприятной в целом, выводы исследования, проведенного в период еще низких цен на нефть, подверглись резкой критике. Но кризис 1973 года заставил осуществить новую стратегию с головокружительной быстротой. „Ресурсы недр мы заменим ресурсами интеллектуальными, – сказал Амая. – Японцы свыклись с кризисами, которые создают землетрясения и тайфуны. Энергетический шок – это своего рода землетрясение, но несмотря на его силу мы были готовы адаптироваться. В каком‑то смысле, – добавил он, – он был даже благословением, вызвав быстрые перемены в японской промышленности“.
Во Франции главным человеком в области энергетики был Жан Бланкар, инженер по специальности и член элитного Корпуса горноисследователей, обладавший огромным опытом работы в нефтяной промышленности. Будучи генеральным представителем по вопросам энергетики в министерстве промышленности, он ведал координацией политики правительства и политики государственных энергетических компаний. В начале 1974 года, даже когда Париж стремился проводить примиренческую двойственную политику по отношению к производителям нефти, Бланкар убеждал президента Жоржа Помпиду в том, „что сейчас наступает совершенно другой период – не кризиса, а преобразований…Для такой страны как наша недопустимо зависеть от решений арабов. Мы должны проводить политику диверсификации в получении энергоносителей и сокращать потребление нефти – или по крайней мере не давать ему повышаться“.
В лице Помпиду Бланкар нашел очень внимательного слушателя – в начале 1974 года Помпиду провел совещание своих старших советников. Серьезно больной, опухший после проведенного курса лечения, Помпиду, по‑видимому, испытывал острую боль во время этого длительного совещания. Тем не менее, после обсуждения были подтверждены три основных направления французской политики по энергетике: ускоренное развитие ядерной энергетики, возврат к использованию угля и особое внимание к энергосбережению – все эти меры были направлены на обеспечение независимости экономики Франции. После совещания не прошло и месяца, как Помпиду скончался, но все три программы получили полную поддержку его преемника Валери Жискар Д'Эстена, который энергично приступил к их реализации. Таким образом, при государственной системе, не допускавшей такого активного как в других западных странах вмешательства защитников окружающей среды, в развитии ядерной энергетики Франция опередила все другие страны. Но развитие этой отрасли шло и в других регионах и к началу восьмидесятых годов производство электроэнергии заняло на главных рынках Запада позиции, утраченные нефтью. Это и было главной целью, хотя и нигде как во Франции, оно не имело таких масштабов. Франция развернула также исключительно энергичную государственную политику по экономии электроэнергии. С целью контроля инспекторы совершали внезапные налеты на банки, универсальные магазины и учреждения и специальными термометрами измеряли температуру в помещениях. Если она превышала официально установленные двадцать градусов по Цельсию, на администрацию зданий налагались штрафы. Но наиболее действенной стороной общей программы экономии электроэнергии во Франции – и в целом французской инициативой – был запрет любой рекламы, которая „стимулировала“ потребление электроэнергии. Производитель рекламы мог заявлять, что переносные электрообогреватели его фирмы самые эффективные в мире, но утверждать, что электрообогрев – это наилучшая форма отопления, он не мог, поскольку это способствовало расходу электроэнергии. Были известны случаи, когда чиновники французского агентства по энергосбережению утром по дороге на работу, услышав по радио рекламное объявление и решив, что оно поощряет потребление электроэнергии, заставляли снимать его с эфира уже к обеду.
Запрещение подобной рекламы породило крайнее замешательство среди нефтяных компаний. Они привыкли к агрессивным действиям, отвоевывая у конкурентов хотя бы даже один процент бензинового рынка. Теперь это кончилось. Теперь самое лучшее, что они могли предпринять, – это превозносить качества различных добавок, способствующих экономии бензина. Экссоновс‑кий тигренок был во Франции укрощен – теперь он уже больше не сидел в бензобаке, теперь он лишь рассудительно советовал водителям проверять покрышки и регулировать двигатель, чтобы сэкономить бензин. Не хотели компании расставаться и со всеми безделушками и премиями, которые – как и во всем мире – обычно раздавали на бензоколонках в виде кружек, стаканов, ложек и переводных картинок. Но все эти подарки поощряли потребление. И единственное, что им теперь разрешалось раздавать, – это дешевые наборчики инструментов, да и то, если в них была щетка для прочистки свечей зажигания, что повышало их эффективность.
„Тоталь“ – одна из двух французских государственных нефтяных компаний – отчаянно искала пути сохранить свое название на виду у публики. Наконец ее осенила блестящая идея. Она начала ставить щиты с изображением красивейших зеленых ландшафтов сельской Франции и очень простыми словами „Это – Франция“, а внизу подпись – „Тоталь“. Реклама была запрещена. Ошеломленная „Тоталь“ спросила, почему?
„По очень простой причине, – ответил Жан Сирота, директор агентства по энергосбережению. – При виде вашей рекламы потребитель говорит: „если нефтяные компании выбрасывают на нее огромные деньги, значит, они очень богаты, значит, никакой энергетической проблемы нет, а значит, и экономить электроэнергию вовсе не обязательно“.
„БЕССОВЕСТНЫЕ ПРИБЫЛИ“
Драматург Юджин О'Нил никогда даже не мог и предположить и, по всей вероятности, был бы немало смущен узнав, что в его пьесе „Луна для пасынков судьбы“, постановка которой была возобновлена на Бродвее, что‑то вызовет смех. В начале второго акта один из героев выкрикивал „Долой всех тиранов! Проклятие „Стандард ойл!“, и вечер за вечером зрители покатывались со смеху, а иногда аплодировали. Это было начало 1974 года – три десятилетия после того, как пьеса была написана. Но теперь эти слова перекликались уже с другой драмой, которая разыгрывалась на заседаниях конгресса, где проходили слушания по энергетическому кризису и роли в нем нефтяных компаний. Самыми драматичными были слушания в сенатском постоянном подкомитете по расследованиям под председательством сенатора Генри Джексона. В детстве сестра Джексона называла его „Скуп“ из‑за сходства с одним из персонажей мультфильмов, и это прозвище сохранилось за ним даже когда он стал влиятельным председателем сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам. Джексон считал себя демократом трезвого трумэновского типа, реалистом, который, как он любил говорить, „имел голову на плечах“. Его деятельность вызывала возмущение у Никсона, который, совещаясь со своими помощниками в Белом доме, назвал ее „демагогией Скупа Джексона“. Кто‑то из помощников попытался объяснить раздраженному Никсону, что „при столкновении с Джексоном у наших союзников в его комитете появляется комплекс неполноценности, и, говоря откровенно, он всегда загоняет их в угол“.
Теперь при игре в популизм на слушаниях устоять против Джексона действительно было невозможно, и он одержал одну из величайших политических побед в своей продолжительной карьере. Главные исполнительные директоры семи крупнейших нефтяных компаний были посажены рядом за один стол и вынуждены под присягой давать показания. Затем, сидя лицом к Джексону и его коллегам, в переполненном, залитом светом телевизионных юпитеров зале, они подверглись унизительному допросу о деятельности и размерах прибылей их компаний. Эти директоры, при всем их знании геологии и нефтехимии, их колоссальном административном опыте, не могли тягаться с Джексоном и другими сенаторами на арене политического театра. Они производили впечатление обособленной группы, не умевшей постоять за себя и совершенно неуместной в этом зале.
Время для слушаний было выбрано в высшей степени искусно: нефтяные компании только что опубликовали данные об огромном росте своих прибылей, и это в то время, когда еще действовало введенное арабами эмбарго. В атмосфере открытого недоверия и враждебности Джексон объявил, что подкомитет намерен установить, действительно ли существует нехватка нефти. „Американский народ, – заявил он, – хочет знать, является ли так называемый кризис всего лишь предлогом, прикрытием для устранения главного источника ценовой конкуренции – независимых компаний. Желанием повысить цены, отменить законы по охране окружающей среды и навязать выделение новых налоговых субсидий…Господа, я надеюсь, что прежде, чем мы сегодня покинем этот зал, мы получим ответ на эти и другие вопросы“. Далее он с угрозой в голосе добавил: „Если же это не произойдет сегодня, я могу заверить вас, мы так или иначе получим ответ в последующие дни“.
Затем Джексон и другие сенаторы накинулись на директоров, которые пытались защищаться. „Эти измышления – сущий вздор, – неуклюже протестовал президент „Галф Ю.С.“, хотя далее он все же сказал. – Я понимаю, что американцы несколько озабочены быстрым поворотом событий в Соединенных Штатах“. Первый вице‑президент „Тексако“ беспомощно заявил: „Мы никого не обманывали и не вводили в заблуждение и, если у кого‑либо из членов комитета имеются доказательства подобных действий со стороны „Тексако“, мы хотели бы, чтобы нам их представили“. Когда же первый вице‑президент „Экссона“ не смог припомнить размер дивидендов компании за 1973 год, Джексон уничтожающе заметил, что тот ведет себя как „наивный ребенок“.
Представители нефтяного бизнеса чувствовали себя униженными и подавленными, особую ярость вызывал у них Джексон, который произнес слова, возможно, и не такой эмоциональной силы, как у Юджина О'Нила, но тем не менее вызвавшие громкие аплодисменты по всей стране, особенно тех, кто зимой 1974 года все еще тратил время на стояние в очередях за бензином. Компании, сказал Джексон, виновны в получении „бессовестных прибылей“. Нефтяники, в общем привыкшие к почтительному к себе отношению, вряд ли были готовы к такому резкому обвинению. „У нас не было ни единого шанса“, – пожаловался взбешенный после устроенного кровопускания президент „Галф“. Но Джексон отлично понимал, что выразит чувства многих американцев, поскольку сам был настроен так же, как и они. Когда он вечером возвращался домой, две колонки неподалеку от его дома теперь всегда были закрыты. „Нам приходится в середине рабочего дня посылать кого‑нибудь из сотрудников, чтобы найти бензоколонку, которая была бы открыта“, – сказал он с некоторым раздражением после слушаний. Возмущенный действиями компаний, определяемыми, по его мнению, лишь их высокомерием и жадностью, он внес предложение, согласно которому компании должны работать по подряду федерального правительства. Джексон преуспел в том, что слова „бессовестные прибыли“ стали притчей во языцех, своего рода мерилом того времени. Когда же „Экссон“ в результате случайного совпадения пришлось опубликовать данные о доходах за 1973 год, которые были на 59 процентов выше, чем в 1972 году, на третий день слушаний президент компании Кеннет Джеймисон был вынужден заявить, что „этот факт его не смущает“. Многие, однако, полагали иначе.
Та самая „Стандард ойл“, которую проклинали в пьесе О'Нила, была расформирована в 1911 году, но слова о ней звучали все еще вполне современно. Над страной вновь возникла мрачная тень ее основателя, Джона Д. Рокфеллера, со всеми зловещими признаками общественных беспорядков, махинаций и тайных сделок. По всей Америке нефтяные компании были теперь среди самых непопулярных институтов. То же самое происходило и в других промышленных странах. В некоторых японских публикациях, например, говорилось о том, как с целью повышения своих прибылей американские нефтяные компании спланировали кризис. Действительно, таковы были и суть общественного протеста, и суть требования об установлении над ними контроля. Об этом предупреждал в 1976 году и конфиденциальный документ по общему планированию для правления одной из крупнейших нефтяных компаний: „Будущее частных нефтяных компаний становится гораздо менее определенным. Тенденция к переходу в руки правительства операций по разведке нефти и нефтедобыче сохранится, при отведении компаниям роли подрядчиков либо официально, либо де‑факто. В странах‑потребителях следует также ожидать большего участия правительства, прямого или косвенного, и в переработке, и в сбыте“. В следующем, 1977 году в Лондоне один из директоров „Шелл“ зашел столь далеко, что заявил: „Как это ни парадоксально, сегодня угроза жизнеспособности какой‑либо нефтяной компании в большей степени исходит от правительств стран‑импортеров, а не стран‑экспортеров“. В этом была своя доля правды. В конце концов, в странах‑производителях самое худшее уже произошло: компании были национализированы, нефть им больше не принадлежала, цены и квоты нефтедобычи они уже не устанавливали. По отношению к экспортерам нефти компании выступали в роли подрядчиков, наемных рук. Не наступила ли теперь, задавались вопросом их руководители, очередь правительств стран‑потребителей разгромить в пух и прах их компании? Некоторые промышленные страны предприняли расследования деятельности нефтяных компаний на предмет выявления нарушений антитрестовского законодательства. Политический риск, по крайней мере, если его определять временными рамками менеджмента, перешел к промышленным странам, в частности, это имело место в Соединенных Штатах. Свято чтимая субсидия на истощение природных ресурсов, снижавшая налог на производство нефти, была резко сокращена; в меньшей мере были сокращены внешние налоговые льготы – „золотой механизм“, к которому так часто и успешно прибегали после Второй мировой войны в целях ускорения разработки нефтяных месторождений в Венесуэле и на Ближнем Востоке, а также для защиты американских позиций в этих регионах. В конгрессе продолжалась борьба за снижение рыночных цен на нефть и усиливалось политическое давление, чтобы удержать от повышения цены на природный газ. Не меньшей угрозой было и движение за „отчуждение“, под которым имелось в виду расформирование интегрированных компаний на отдельные фирмы, каждая из которых занималась бы каким‑либо отдельным сегментом нефтяной отрасли: добычей сырой нефти и природного газа, транспортировкой, переработкой, сбытом. В какой‑то момент сорок пять из ста сенаторов проголосовали за такое отчуждение. Мнение нефтяной промышленности на этот счет суммировалось в одном термине, который она предпочитала использовать, – „расчленение“.
К тому же шли постоянные нападки на „бессовестные прибыли“. На чем же основывались все эти великие споры и возмущение? Несмотря на взрыв спроса, прибыли крупнейших нефтяных компаний были в течение пяти лет, включая 1972 год, практически одинаковы. Затем они выросли с 6,9 миллиарда долларов в 1972 году до 11,7 миллиарда долларов в 1973 году и подскочили до 16,4 миллиарда долларов в рекордном 1974. Причин для этого было несколько. Значительную часть немедленного прироста дали иностранные операции. С повышением странами‑экспортерами цен, компании не выплачивали налоги с увеличения стоимости неамериканских нефтяных акций, которые у них еще оставались. Стоимость и рыночные цены их американских нефтяных резервов также возросли. Более того, до повышения они закупили нефть, которая находилась в хранилищах, по более низким ценам, скажем, по 2,90 доллара, а затем с прибылью продали ее по 11,65 доллара. Их нефтехимические предприятия также приносили прибыль, чему способствовало ослабление доллара. Но затем прибыли упали до 11,5 миллиарда долларов в 1975 году, оказавшись ниже, чем в 1973 году. Тому было несколько причин. В результате экономического спада сократился спрос на нефть. Прибыли компаний от продажи акций не укрылись от внимания стран‑экспортеров, и они начали повышать налоги и арендную плату за право разработки, желая пополнять свою казну, а не карманы компаний. К тому же это был год, когда некоторые налоговые льготы были урезаны. В следующие несколько лет прибыли снова возросли, достигнув 15 миллиардов долларов в 1978 году, что в реальном выражении означало, что они едва поспевают за ростом инфля ции. В абсолютном выражении прибыли компаний были громадными, но нормы прибыли оставались, за исключением 1974 года, несколько ниже средней нормы во всех отраслях американской промышленности.
В общей картине прибыльности была и еще одна значительная особенность. Прибыль концентрировалась в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Стоимость резервов, которые компании имели, например, в Соединенных Штатах и Северном море, с повышением цен на нефть также возросла. Вторая часть отрасли – нефтеперерабатывающие заводы, танкеры, бензоколонки и т. п. – была создана до 1973 года в расчете на рост годового спроса на нефть на семь‑восемь процентов. Реальный спрос был намного ниже, и таким образом мощности этой части отрасли оказались чрезмерно раздутыми. Третья часть общего тоннажа танкерного флота простаивала. Эти излишки мощностей в сочетании с утратой акций сырой нефти на Ближнем Востоке заставили международные нефтяные компании сомневаться в стоимости и рациональности сохранения крупных систем переработки и сбыта, созданных ими в 50‑е и 60‑е годы в Европе для реализации ближневосточной нефти – той самой нефти, которую теперь у них отняли.
ПОЛИТИКА США В ЭНЕРГЕТИКЕ: „КИТАЙСКАЯ ПЫТКА ВОДОЙ“
Несмотря на поразительно высокий консенсус и преемственность внешней энергетической политики в администрациях Никсона, Форда и Картера, во внутренней политике подобной согласованности не было. Наоборот, в этой части энергетического уравнения продолжались острейшие дебаты по контролю над ценами и по поводу деятельности нефтяных компаний. В августе 1974 года Никсон вышел в отставку, но Уотергейтский скандал оставил после себя кризис доверия к правительству и стойкие подозрения по поводу реальности самого энергетического кризиса.
Нефть и энергетика уже становились „кипящим котлом“ в национальной политике, подогревавшимся присутствием „угрозы“ американскому образу жизни и высокими ставками в смысле власти и денег. Еще в августе 1971 года, пытаясь остановить инфляцию (составлявшую в то время 5 процентов, что считалось недопустимо высоким), Никсон ввел общий контроль над ценами. Срок его в большей части статей истекал в 1974 году, но на нефть это не распространялось. Скорее наоборот, политика и крайняя напряженность обстановки того времени дали толчок развитию внушавшей ужас системы контроля над ценами, компенсационными выплатами, субсидиями и распределением дефицита ресурсов по типу сложнейших и никому не нужных построений Руба Голдберга*, по сравнению с которой обязательная программа импорта нефти в 60‑е годы выглядела простой как хайку.
Общественное мнение требовало, чтобы Вашингтон „что‑то“ предпринял, – и под этим „что‑то“ подразумевалось возвращение к ценам, как в старые добрыевремена, но в то же время и обеспечение поставок. На рынках царили смятение и разрегулированность, и каждое новое решение несло непредвиденные последствия. „Каждая проблема, которую вы решаете, как бы создает две каких‑то новых“, – жаловался один государственный чиновник, занимавшийся регулированием цен. Те, кто умели воспользоваться этой новой системой, получали хорошие прибыли. Например, большим бизнесом стало приобретение права на поставки сырой нефти. Результатом этого явилось получение „очищенных отходов“ и возврат к безнадежно неэффективным перерабатывающим заводам типа „чайника“, каких не видели со времени потока нефти с промыслов Восточного Техаса в начале тридцатых годов. Различные программы породили множество разорительных предложений, бесконечных слушаний в конгрессе и огромный объем работы для адвокатов и юрисконсультов, которого хватило для осуществления одной из величайших программ столетия по „обеспечению юристов“. „Для нефтяной промышленности „Федерал реджистер“* стал более важен, чем все данные геологов“, – писал один ученый.
Каков бы ни был краткосрочный выигрыш в цене акций, плата за него в плане неэффективности, нечеткости рынка, отвлечения усилий и нерационального использования ресурсов и времени была несоразмерной. Только в стандартных ответах на запросы преобразованной Федеральной комиссии по управлению энергетикой участвовали около 200000 респондентов от промышленности, что отвлекало примерно пять миллионов человеко‑часов ежегодно. Прямые расходы системы регулирования, измеряемые просто в расходах государственных агентств и промышленности на меры по регулированию, в середине семидесятых годов достигали в среднем нескольких миллиардов долларов. Вся кампания по регулированию не столько способствовала росту национального благосостояния, сколько создавала острейшую хроническую головную боль в политике государства. Но таковы были особенности того периода.
Тем временем все же требовалось предпринять что‑то значительное, крупномасштабное. В январе 1975 года президент Джералд Форд ухватился на никсо‑новский проект „Независимость“, предложив грандиозный десятилетний план строительства 200 атомных электростанций, 250 угольных шахт, 150 крупных, работающих на угле, электростанций, 30 огромных нефтеперерабатывающих заводов и 20 крупных электростанций, работающих на синтетическом топливе. Вскоре после этого вице‑президент Нельсон Рокфеллер, внук человека, олицетворявшего нефтяной гигант, выступил с еще более грандиозной программой в 100 миллиардов долларов на субсидирование работ по созданию синтетических энергоносителей и других дорогостоящих проектов по энергетике, которые коммерческие рынки отказывались финансировать. Противники этой программы подвергли сомнению целесообразность расходов на эти проекты, и инициативы Рокфеллера оказались напрасными. Однако в годы администраций Никсона и Форда было и два исключительно значительных достижения. Сразу же после введения эмбарго конгресс дал зеленый свет строительству аляскинского трубопровода. Проект обошелся в конечном счете в 10 миллиардов долларов. За 'Руб Голдберг – карикатурист и скульптор. В его карикатурах выдуманное им сложное оборудование выполняет примитивные и никому не нужные операции.'Прим. пер. „Федерал реджистер“ – периодическое правительственное издание, публикующее тексты президентских заявлений, указов, а также правительственные постановления и сообщения. щитники окружающей среды утверждали, что теперь, после многочисленных отсрочек и пересмотров проекта, трубопровод представлял меньшую опасность для окружающей среды. Как бы то ни было, он оказался единственным и крайне важным новым вкладом в обеспечение американских поставок энергоносителей со времени открытия в тридцатые годы месторождения „Папаша Джойнер“ в Восточном Техасе.
Другим важным достижением было введение в 1975 году в автомобильной промышленности стандартов топливной экономичности двигателей. Согласно этим стандартам средняя экономичность двигателя нового автомобиля должна была за десятилетний период удвоиться – то есть пробег при расходе одного галлона бензина с 13 миль должен был увеличиться до 27,5 мили. Поскольку в то время из каждых семи баррелей, ежедневно потребляемой в мире нефти, один баррель сжигался в качестве моторного топлива на американских больших и малых дорогах, такое изменение должно было в огромной мере сказаться не только на американском, но и на мировом нефтяном балансе. Закон о стандартах экономичности двигателей также предусматривал образование стратегических запасов нефти. Это была та самая идея, которую после Суэцкого кризиса в 1956 году выдвигал Эйзенхауэр и которую шах пытался продать Соединенным Штатам в 1969 году. План был превосходен: такой резерв будет полностью компенсировать нехватку при любом перерыве в поставках. Однако на практике темпы создания такого резерва оказались фатально медленными.
В 1977 году Джимми Картер, проводивший избирательную кампанию как аутсайдер, который должен был принести моральное обновление потерявшей доверие и запятнанной Уотергейтским скандалом американской политике, стал президентом. Вопросы энергетики привлекали его внимание еще за много лет до выборов. Он служил на флоте на подводной лодке и навсегда запомнил предупреждение отца первой атомной подводной лодки адмирала Хаймана Рико‑вера, что человечество бездумно расходует природные запасы нефти. Во время своей избирательной кампании Картер обещал, что в первые же девяносто дней после инаугурации он примет новую политику в области энергетики. И он был твердо намерен сдержать свое слово.
Он поручил эту задачу Джеймсу Шлесинджеру, дипломированному экономисту, который первоначально сделал себе имя как специалист по экономике национальной безопасности. Аналитический склад ума и непоколебимое чувство долга сочетались в Шлесинджере с тем, что обычно называли ранее „интеллектуальным усердием и моральным рвением“. У него были четкие представления о том, что было правильным, когда речь шла о политике и руководстве, и он не колебался и не вилял, когда их следовало осуществлять. Он сам не был большим любителем легких компромиссов и уж, безусловно, не мог терпеть их у своих оппонентов. Свои мысли он излагал в неторопливой, краткой и выразительной манере, что иногда создавало впечатление, что его слушатели, будь то генералы или даже сенаторы, были студентами‑первокурсниками, которым никак не удавалось понять самую очевидную и не требующую доказательств истину.
Ричард Никсон вытащил его из „Рэнд корпорейшн“ и поставил во главе Бюджетного бюро, затем назначил председателем Комиссии по атомной энергии, затем – директором Центрального разведывательного управления, а вскоре после этого – министром обороны. Однако по утрам в погожие субботние и воскресныедни Шлесинджера можно было найти за городом, неподалеку от Вашингтона, с биноклем в руках. Он не занимался своей профессиональной деятельностью, выслеживая русских, – он просто отдавался своему хобби, наблюдению за птицами. Его пребывание в должности министра обороны закончилось при Джералде Форде, когда на совещании кабинета министров он, предельно ясно изложив свою точку зрения, выступил против проводимой Киссинджером политики разрядки и американской позиции в период агонии Южного Вьетнама, приведшей к падению Сайгона. После общенационального съезда Демократической партии в 1976 году Картер позвонил Шлесинджеру и пригласил его в свой дом в Плейнсе, в штате Джорджия, чтобы поговорить о политических взглядах и о политике. Шле‑синджер был близким другом сенатора Генри Джексона, единственного влиятельного сенатора, когда речь шла об энергетике, и к тому же соперника Картера при выдвижении кандидатуры на пост президента от Демократической партии. После выборов Джексон настойчиво уговаривал Картера взять Шлесинджера в новую администрацию в качестве главного борца за энергетическую программу. Картер и сам этого хотел. Шлесинджер не только произвел на него благоприятное впечатление, но, как сам Шлесинджер позднее отмечал, „в своем роде это было очень удобно, если председатель сенатского комитета по вопросам энергетики является другом вашего министра энергетики“.
В первые же недели администрации Картера энергетика стала вопросом номер один. Картер ознакомился с подготовленным в конце 1976 года докладом ЦРУ, прогнозировавшим нехватку нефти, и нашел его чрезвычайно интересным и убедительным, а главное, дававшим ему мотивацию следовать по выбранному пути. Шлесинджер, как и Картер, был убежден, что обеспечение углеводородами будет и в дальнейшем связано с растущими трудностями, а это представляло экономическую и политическую опасность для Соединенных Штатов. Конечно, будучи экономистом, Шлесинджер не верил в абсолютное истощение природных ресурсов, скорее он считал, что неизбежно повысятся цены, обеспечивая таким образом баланс рынка. Оба они разделяли глубокую тревогу относительно сложностей внешней экономической политики в условиях превышения спроса над предложением на нефтяном рынке. Как явствует из мемуаров Картера, многие американцы, в том числе, безусловно, и Джимми Картер, и Джеймс Шлесинджер, „чувствовали себя глубоко оскорбленными, что самой великой страной в мире вертят несколько находящихся в пустыне государств“.
В 1972 году, задолго до кризиса, еще находясь на посту председателя Комиссии по атомной энергии, Шлесинджер высказал еретическую по тем временам мысль: Соединенные Штаты, исходя из соображений национальной безопасности, внешней экономической политики и улучшения окружающей среды, должны принять программу энергосбережения. „Мы окажемся в гораздо лучшем положении, если перестанем выпускать автомобили, съедающие каждые десять миль галлон бензина, и строить здания с недостаточной теплоизоляцией, которые одновременно и нагреваются и охлаждаются“, – сказал он тогда. Что касалось защитников окружающей среды, то, по его мнению, основой их движения должно быть „опровержение посылки“ о „более или менее автоматическом росте энергопотребления“. Теперь, в 1977 году он был более, чем когда‑либо убежден, что главным фактором в любой политике по энергетике должна быть экономия. К сожалению, для многих других это было не так очевидно, как для него. Новая администрация оставалась верной обещанию принять общегосударственную энергетическую программу в течение первых же девяноста дней. При такой поспешности не хватало времени для создания необходимого консенсуса и рабочих взаимоотношений не только с председателями комитетов в конгрессе, но и с более широкой группой заинтересованных конгрессменов и даже в самой администрации. Разработка новых программ держалась в секрете. Более того, третью часть этих девяноста дней Шлесинджеру пришлось посвятить срочному прохождению закона по природному газу, принятие которого должно было нормализовать положение, сложившееся вследствие его нехватки в 1976 – 1977 годах, а также законодательным актом об учреждени министерства энергетики. При таком обилии событий Шлесинджер попросил Картера отказаться от срока в девяносто дней. „Я сказал девяносто дней, – твердо ответил Картер. – Я дал обещание и намерен его сдержать“.
Все же Картер был не вполне доволен предложенной программой. „Наш главный и самый сложный вопрос состоит в том, как поднять цены на дефицитную энергию с минимальным ущербом для нашей экономической системы и наибольшей справедливостью в распределении финансового бремени, – написал он в записке Шлесинджеру. – Я не удовлетворен вашим подходом. Он чрезвычайно сложен“. И далее, чтобы объяснить свое недовольство, Картер жалобно приписал: „Я его не понимаю“.
План предполагалось обнародовать в начале апреля в основном послании президента. За неделю до этого, в воскресенье, Шлесинджер в телевизионном интервью, отыскивая метафору, которая бы подчеркнула всю грандиозность энергетической проблемы, привел слова философа и психолога Уильяма Джеймса* – „моральный эквивалент войны“. Оказалось, что в то воскресенье среди телезрителей был и Джимми Картер, которому это выражение страшно понравилось, и он включил его в свое выступление. Итак в апреле 1977 года Картер, появившись в свитере на телевизионных экранах для „беседы у камина“ с нацией, назвал свою энергетическую программу „моральным эквивалентом войны“ – и в дальнейшем ее часто так и стали называть. Хулители же программы предпочли акроним „МЭВ“, что произносилось так же, как кошачье „мяу“.
Программа Картера включала множество инициатив, направленных на изменение позиций в американской энергетике, введение экономической целесообразности в ценообразовании и сокращение импорта нефти. С точки зрения Шлесинджера, приоритетом номер один был поиск механизма, с помощью которого удалось бы поднять цены на отечественную нефть, которые подлежали контролю, до уровня мировых рыночных цен с тем, чтобы потребители соответствующим образом отреагировали на корректировку ценовых показателей. При существовавшей системе происходило как бы слияние контролируемых цен на отечественную нефть и более высоких цен на импортируемую нефть, образовывая одну конечную цену, которую платили потребители. На практике это означало, что Соединенные Штаты субсидируют импортируемую нефть. Итак, программа Картера предлагала механизм ликвидации контроля над ценами на отечественную нефть путем введения „уравнительного налога на сырую нефть“. В этом была и определенная доля иронии: первоначальный контроль над ценами ввело в августе 1971 года республиканской администрации Ричарда Никсона, а теперь демократическая администрация пыталась снять его. Картер и Шлесинджер обратились также к довольно искусному, хотя и очень сложному методу вызволения страны из смирительной рубашки контроля над ценами на природный газ. Администрация делала более сильный упор, чем ее предшественницы на энергосбережение и на использование угля. Она стремилась ввести некоторую конкуренцию в производство энергии и поощрить развитие и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии, в том числе и энергии солнца.
[Прим. пер. Уильям Джеймс, 1842–1910, американский философ и психолог, один из основателей прагматизма – „истинно то, что отвечает практической успешности действия“.]
Администрация действовала таким образом, словно в стране был кризис, который должен сплотить нацию. Однако общественное мнение отнюдь не считало, что он существует. И в ходе продвижения своей программы Картер узнал на личном опыте, как в американской системе действуют особые интересы, в том числе либералов, консерваторов, нефтепромышленников, групп потребителей, автомобильных компаний, выступающих и за, и против атомной энергетики, активистов угледобывающей отрасли, компаний коммунального обслуживания и защитников окружающей среды – при всех их противоречащих повестках дня. Для Шлесинджера, однако, вопрос был абсолютно ясен. Перед Соединенными Штатами стояла „серьезная и рассчитанная на достижение конечного результата государственная проблема“. Он не считал, что мир вскоре останется без нефти, но полагал, что высокие темпы роста потребления, которые в пятидесятые и шестидесятые годы обеспечивали экономический рост, не удастся далее поддерживать на таком же уровне. „Мы должны были ликвидировать зависимость нашего экономического роста от сырой нефти, – пояснял он позднее. – Мы должны были полностью отказаться от этого“. Уверенный в правильности своего анализа, он был не готов к шквалу дебатов и горечи последовавших сражений. Присутствуя на шедших одно за другим слушаниях в конгрессе, он вспоминал совет одного умудренного опытом ветерана в Комиссии по атомной энергии, который он получил будучи ее председателем: „Существуют три вида лжи – обычная ложь, чертовская ложь и ложь в энергетике“. Позднее Шлесинджер скажет: „У меня сохранялся менталитет как бы времен Второй мировой войны. Если президент говорил, что какое‑либо действие необходимо в государственных интересах, я считал, что он встретит большую поддержку, чем мы получили. Однако в стране что‑то изменилось. Будучи министром обороны, я знал, что все, кто не против вас, находятся на вашей стороне. Здесь же, в области энергетики, перед нами были группы и группы – с противоположными интересами. Мы не могли добиться консенсуса. Это было тяжело и тревожно“.
Из всех вопросов по энергетике самым спорным и труднорегулируемым оказался вопрос о природном газе. Поскольку приход администрации Картера совпал с самым разгаром насчитывавшей десятилетия политической и чуть ли не теологической борьбы за установление цен на природный газ и контроль над ними – будет ли его осуществлять правительство либо же это сделает рынок. Борьба, которую Шлесинджеру пришлось наблюдать на заседаниях по природному газу в палате представителей, была настолько ожесточенной, что он ска зал: „Теперь я знаю, как выглядит ад. Ад – это непрерывные и вечные заседания и совещания по природному газу“. Все же компромисс, причем очень сложный, был достигнут. На цены на природный газ допускались ограниченные повышения. С некоторых объемов, на которые распространялся контроль над ценами, он был снят. Одновременно на те объемы, где контроль над ценами ранее был снят, он снова на некоторое время вводился и в дальнейшем его предполагалось снять. В области ценообразования был создан ряд различных категорий, и это касалось товара, который большей частью состоял из стандартного набора молекул, – одного атома углерода и четырех атомов водорода.
Несмотря на все кровавые политические битвы и как результат, значительную потерю политического капитала, администрация Картера могла заявить о ряде важных достижений при осуществлении своей энергетической программы. „Принятие Национального закона об энергетике является своего рода водоразделом, поскольку с него начинается адаптация наших потребностей к имеющимся возможностям, – сказал, выступая в Лондоне, Шлесинджер. – Поворот на этом пути навязан нам – всем нам – ограничениями, материальными и политическими, в области поставок нефти в будущем“. Но, оглядываясь назад на почти двухлетнюю борьбу, которая последовала за первоначальным призывом Картера к действиям, Шлесинджер не смог удержаться, чтобы не произнести с сожалением: „Ответная реакция была близкой не столько к выведенному Уильямом Джеймсом моральному эквиваленту войны, сколько к политическому эквиваленту китайской пытки водой“.
ГОДЫ БУМА
К концу 1978 года во всем мире, включая Соединенные Штаты, начали ощущаться результаты политики, принятой после введения эмбарго. Однако первая реакция на эмбарго была всеобщей и почти мгновенной. Резкие скачки цен, перспектива их дальнейшего повышения, значительно возросшее движение денежной наличности и тревога инвесторов – все это породило повсюду безумную, вызывавшую инфляцию, погоню за нефтью. На просьбу охарактеризовать это мировое сумасшествие, заместитель менеджера по нефтеразведке в компании „Экссон“ ответил очень коротко: „Это просто дико“. Разведка нефти, находившаяся вплоть до 1973 года в застойном состоянии, теперь велась на полную мощность, цены на все виды оборудования, будь то полупогруженная буровая платформа, буровое судно с динамическим позиционированием или просто устаревшая установка на суше в Оклахоме, по сравнению в 1973 году удвоились. Более того, очень существенно перераспределился поток инвестиций. Теперь главной заповедью стало – любыми средствами обходить стороной националистически настроенные страны „третьего мира“. Во всяком случае, в большинстве стран ОПЕК нефтеразведка была приостановлена в результате национализации, а что касается других развивающихся стран, то существовало довольно стойкое убеждение в том, что если какая‑то компания и добьется там успеха, то плоды ее трудов будут захвачены практически целиком прежде, чем она сумеет ими воспользоваться. Так что по мере возможности компании перенаправляли свои средства на нефтеразведку в индустриальные страны Западного мира: в Соединенные Штаты, несмотря на растущий пессимизм по поводуих нефтяного потенциала, в Канаду и в британский и норвежский секторы Северного моря. В 1975 году „Галф“ провела полный пересмотр своего бюджета по всем странам. Каждый инвестированный доллар, который не был прочно закреплен контрактами и задействован, был тихо и незаметно изъят из „третьего мира“ и возвращен в Северную Америку и Северное море. „Ройал Датч/Шелл“ к 1976 году сконцентрировала 80 процентов своих мировых расходов в производстве неамериканской нефти в Северном море. „После 1973 года и последовавшей национализации приходилось искать удачи уже на другом поле, – вспоминал один из директоров „Экссон“. – И мы отправлялись в те места, где все еще могли получить долю в акционерном капитале, какую‑то собственность на нефтепромыслах“.
Помимо этого, нефтяные компании начали широко вкладывать средства в различные, не связанные с нефтью предприятия. Оправдать это было несколько трудно особенно в тот период, когда они призывали к снятию контроля над ценами, ссылаясь на необходимость инвестировать все средства в энергетику, и этим, в сущности, подрывали свою аргументацию. Такой переход к диверсификации отражал перспективы ухудшения и ужесточения деловой и политической обстановки, которые ожидали нефтяные компании в результате государственного вмешательства и регулирования. Была и еще одна причина – неотступный страх, что дни нефтяных монополий, да и самой нефти, могут быть сочтены в результате истощения геологических ресурсов. Между 1970 и 1976 годами разведанные американские запасы нефти сократились на 27 процентов, а запасы газа – на 24 процента. Казалось, что нефтяному счастью Соединенных Штатов вот‑вот придет конец. И хотя фактические инвестиции компаний за пределами энергетического бизнеса были невелики по сравнению с их общими финансовыми вложениями, их долларовые размеры все же были значительны. „Мобил“ купила сеть универсальных магазинов „Монтгомери Уорд“, „Экссон“ занялась электронным оснащением для офисов, а „Арко“ – медными рудниками. Но ничто не вызывало такого веселья и насмешек, как участие „Галф“ в торгах при продаже „Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли“. По‑видимому, именно это желание купить цирк больше, чем что‑либо другое, говорило о том, что суматошная и шумная новая эра – эра абсолютной власти ОПЕК, высоких цен на нефть, растерянности, ожесточенных дебатов и энергетических войн в Вашингтоне – действительно была своего рода цирком.
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ: АЛЯСКА И МЕКСИКА
На протяжении семидесятых годов на мировом нефтяном рынке по‑прежнему доминировала ОПЕК. В 1973 году на ее долю приходилось 65 процентов общей нефтедобычи Западного мира и 62 процента в 1978 году. Однако власть ее, хотя еще и не слишком заметно, начинала ослабевать. Стремление к инициативе в ценовой политике и соображения безопасности стимулировали переход промышленных стран к нефтедобыче за пределами стран ОПЕК, и это со временем преобразовало мировую систему поставок. Хотя действия в этом направлении предпринимались по всему миру, на первый план вскоре вышли три новых района: Аляска, Мексика и Северное море. О наличии в них нефти было известно еще до скачка цен в 1973 году, но по различным соображениям политического иэкономического характера, из‑за протестов защитников окружающей среды, технических сложностей и просто фактора времени, необходимого для длительной подготовки при реализации таких крупных проектов, нефтедобыча в них практически не велась.
Введение эмбарго и вызванные им чрезвычайные обстоятельства послужили сигналом к началу работ по строительству аляскинского трубопровода. Стальные трубы и тягачи, с таким оптимизмом закупленные в 1968 году, все последние пять лет оставались на замерзших берегах Юкона, у тракторных двигателей все пять лет проводилось все регламентное обслуживание. Теперь их час наступил, и работы пошли быстрыми темпами. К 1977 году строительство трубопровода протяженностью в 800 миль было завершено, его отдельные участки возвышались на сваях над тундрой, и так называемая ранняя нефть с Норт‑Слоуп пошла в порт транспортировки Валдиз на южном побережье Аляски. К 1978 году по трубе перекачивалось свыше миллиона баррелей нефти в день, а через несколько лет – уже два миллиона баррелей, то есть четвертая часть всей добычи сырой нефти в Америке.
В Мексике после ожесточенной битвы за национализацию в конце тридцатых годов нефтяная промышленность обратилась к внутреннему рынку – Мексика больше не пыталась оставаться одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. Обеспечением внутреннего рынка занялась государственная нефтяная компания „Пемекс“, символ мексиканского национализма. „Пемекс“ была также предметом борьбы за контроль, шедшей между правительством и сильным профсоюзом нефтяников, который был – отнюдь не благодаря стечению обстоятельств – одним из ведущих подрядчиков „Пемекса“. Несколько десятилетий „Пемекс“ находилась в тяжелейшем положении. Низкие цены на внутреннем рынке ограничивали ее доход, а программа развития определялась осторожными инженерами, которые руководствовались принципами экономного расходования ресурсов, считая, что они должны быть сохранены для будущих поколений. Серьезных шагов для расширения своих резервных мощностей „Пемекс“ не предпринимала. И хотя нефтедобыча росла, она не поспевала за быстрым ростом потребностей „мексиканского экономического чуда“. В результате Мексика не только перестала быть экспортером, но фактически перешла на импорт небольших объемов нефти. Однако из соображений престижа этот факт тщательно скрывался, как, например, в том случае, когда она была вынуждена срочно закупить в „Шелл“ груз венесуэльской сырой нефти.
В целях увеличения нефтедобычи „Пемекс“ приступила к разведочным работам методом глубокого бурения в холмистых саваннах южного штата Табас‑ко. В 1972 году в необычной структуре, названной „Реформа“, была открыта нефть. Продуктивность скважин на участках „Реформы“ была настолько велика, что район назвали „Маленький Кувейт“. А вскоре были обнаружены богатые месторождения в континентальном шельфе залива Кампече.
Становилось ясно, что Мексика обладает нефтяными ресурсами мирового уровня. В 1974 году страна снова приступила, хотя и в очень небольшом масштабе, к экспорту нефти, что подверглось критике как действие, противоречившее заветам мексиканского национализма. И в последние годы президентства радикального и националистически настроенного Луиса Эчеверрии Альвареса инженеры „Пемекса“, несмотря на рост нефтедобычи, были по‑прежнему крайне осторожны в своих оценках геологических резервов. Но с избранием в 1976 году на пост президента Хосе Лопеса Портильо положение изменилось. Лопес Портильо, бывший при Эчеверрии министром финансов, унаследовал экономический кризис, самый серьезный со времени Великой депрессии. Мексиканское экономическое чудо выдохлось, экономика была в тупике, стоимость песо резко упала, и в стране, с точки зрения международных кредиторов, создалась рискованная ситуация для инвестиций. Положение усугублялось еще и тем, что демографический рост опережал рост экономический – из каждых двух мексиканцев один был моложе пятнадцати лет, а сорок процентов работоспособного населения либо не имели работы, либо были частично заняты. В последние месяцы до фактического прихода Портильо к власти положение было настолько тяжелым, что ходили слухи даже о возможности военного переворота.
Новая нефть оказалась даром свыше. Так же как и шок, вызванный скачком цен – благодаря ему нефть приобретала еще большую ценность. Лопес Портильо решил использовать новые открытия как главный фактор в новой экономической стратегии. Он назначил главой „Пемекса“ своего старого друга Хорхе Диаса Серрано. В отличие от своего предшественника, инженера‑мостостроителя, Диас Серрано хорошо знал нефтяную промышленность. Он стал миллионером, поставляя нефтяной отрасли услуги, и сразу же ухватился за возможности, которые открывали новые месторождения. Нефть должна была дать Мексике так необходимую ей иностранную валюту, снять сдерживавшее влияние дефицита платежного баланса на экономический рост, стать гарантом при получении новых иностранных займов и поставить Мексику в центр новой мировой экономики. Короче говоря, нефть должна была стать локомотивом возобновлявшегося роста.
Президент Лопес Портильо, однако, предостерегал: „Способность страны к денежному поглощению схожа с системой пищеварения человека. Нельзя съесть больше, чем организм в состоянии переварить. В противном случае это приводит к болезни. То же происходит и в экономике“. Но действия Лопеса Портильо говорили громче его слов и расставляли совершенно другие акценты. Инвестиции, большей частью из‑за границы, рекой полились в промышленность. Нефтеразведка и расширение резервов велись быстрейшими темпами: о все более и более огромном нефтяном потенциале распространялись официально санкционированные слухи. Ежедневная нефтедобыча росла головокружительными темпами, даже опережая план. С 500000 баррелей в 1972 году она поднялась до 830000 баррелей в 1976 году и 1,9 миллиона баррелей в 1980 году – в четыре раза увеличившись менее, чем за десятилетие.
И если вплоть до конца 1976 года Мексика была страной, которую избегали иностранные кредиторы, то теперь она стала одним из наиболее активных получателей займов. „Почему банкиры внезапно полюбили Мексику?“ – гласил заголовок одной из статей в „Форчун“. Причиной, конечно, была нефть. „Теперь в нашу дверь стучится каждый, кто так или иначе связан с банковскими делами“, – сказал вице‑президент „Маньюфекчерес Ганновер траст“. А в 1979 году в одном из номеров нью‑йоркского финансового бюллетеня мексиканский представитель, получивший наибольшее число займов, был даже назван „человеком года“. Этот титул могла бы получить и вся страна. Ограничений, казалось, не существовало: иностранные займы брали все – мексиканское правительство, „Пемекс“, другие государственные компании, частные фирмы. Какова была общая сумма заимствований? Этого не знал никто. Но это представлялось и неважным. Кредиты Мексике, гарантом которых была нефть, были огромны. А, может быть, так считали только банкиры и их мексиканские коллеги. Но одно было совершенно определенно: Мексика стала серьезной новой силой на мировом нефтяном рынке, какой она не была с двадцатых годов. И она служила еще одним альтернативным источником поставок, который подрывал абсолютную власть ОПЕК.
СЕВЕРНОЕ МОРЕ: САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ ВСЕХ ИГР
Многие столетия Северное море находилось в распоряжении моряков. В Средние века здесь ловили сельдь, что было для Европы большим бизнесом, а в более недавние времена – морского окуня и треску. Но к середине семидесятых на морской глади с вертолета можно было увидеть новую породу мореплавателей: плавающие буровые установки, вспомогательные суда, платформы, прокладывавшие трубы баржи – сначала их было совсем немного, а затем они появились в таком количестве, что временами закрывали все водное пространство. Здесь, в поделенных между Норвегией и Великобританией водах Северного моря начиналась самая крупная игра, ставкой в которой было господство в мировой нефтяной промышленности, игра, в которую вкладывались невиданные ранее инвестиции и силы. Остаться вне ее не могла позволить себе ни одна нефтяная компания. Вовлекались в нее и многие новые игроки, начиная от промышленных компаний до степенных эдинбургских инвестиционных трестов и даже газетного магната лорда Томсона, владевшего лондонским „Тайме“. Он был партнером Арманда Хаммера.
На североморских берегах еще с двадцатых годов начали бурить скважины надеявшиеся на удачу предприниматели Западной Европы. Результаты были явно обнадеживающими, но общая добыча здесь никогда не превышала 250000 баррелей в день. Новый толчок к поискам надежных источников нефти и газа в Европе дал Суэцкий кризис 1956 года. И в 1959 году в голландской провинции Гронинген „Шелл“ и „Эссо“ открыли огромное газовое месторождение, самое большое из всех известных, исключая СССР. Исходя из предположения, что в геологическом строении Северного моря и Голландии присутствуют схожие черты, компании начали разведку в прилегающих водах. В 1965 году, в тот самый год, когда Великобритания и Норвегия, закрепляя за собой право на разведку нефти, официально разделили ровно посередине акваторию Северного моря, в его относительно мелководной части были открыты огромные месторождения газа, и для их разработки были поставлены довольно примитивные по современным стандартам платформы. Некоторые компании продолжали вести разведку нефти, но в лучшем случае с умеренным интересом и без большого рвения.
Среди них была и компания „Филлипс петролеум“ из Бартлсвила в штате Оклахома. Ее интерес к этому району возник в 1962 году, когда вице‑президент компании, отдыхая в Голландии, заметил в Гронингене буровую вышку. Через два года после того, как в Бартлсвиле главные директора компании изучили, ползая полдня по своей баскетбольной площадке, раскатанные на ней листыдлиной в триста футов с данными сейсмической разведки, „Филлипс“ приняла программу разведочных работ. Но в 1969 году, пробурив за пять лет ряд бесперспективных скважин, компания собиралась прекратить работы. На норвежском континентальном шельфе было пробурено, в том числе и „Филлипс“, около 32 скважин, и ни одна из них не имела промышленного значения. К тому же с каждой новой скважиной работы в Северном море становились все более дорогостоящими, гораздо более сложными, чем все, что компания до сих пор предпринимала. Поступивший из Бартлсвиля приказ менеджерам „Филлипс“ в Норвегии был ясен: „К бурению новых скважин не приступать“.
Но следуя великой традиции, шедшей еще со времен полковника Дрейка, пробурившего в 1859 году скважину в Пенсильвании, и первого открытия в 1908 году в Персии, „Филлипс“, хотя и с большой неохотой, решила сделать еще одну попытку – но только потому, что она уже заплатила за аренду морской буровой установки „Оушен Викинг“ и не могла найти никого, кто захотел бы взять ее в субаренду. А за буровую установку приходилось платить ежедневно, независимо от того, работала она или нет. Погода ухудшалась, и море было бурным. В какой‑то момент установка сорвалась с якорей и начала дрейфовать в сторону от намеченного для бурения места. Ночью шторм настолько усилился, что установка грозила опрокинуться, и с наступлением рассвета были приняты экстренные меры для ее спасения. Но „Оушен Викинг“ сделал свое дело: в ноябре 1969 года с его помощью были получены положительные результаты на участке 2/4 месторождения Экофиск, на норвежской стороне от серединной разделительной линии. Это был год торжества новейших технологий – открытие нового месторождения с помощью сейсмической разведки и только что происшедшая высадка американских астронавтов на Луне. Бурильный мастер с „Оушен Викинг“, рассматривая образец нефти, полученной с глубины 10000 футов ниже морского дна, был поражен ее видом, говорившем о необычно высоком качестве. „Конечно, астронавты сделали великое дело, – сказал он работавшему на установке геологу. – А что вы скажете относительно вот этого?“, – и он протянул геологу образец. Нефть отливала золотистым блеском, она была почти прозрачна и определенно походила на золото.
Открытие „Филлипс“ заставило все другие компании пересмотреть свои сейсмические данные и усилить активность. Теперь в Северном море уже не попадались сиротливо стоявшие буровые установки, всем своим видом напоминавшие, что им пора приняться за работу. Через несколько месяцев на техническом совещании в Лондоне одного из главных директоров „Филлипс“ спросили, какими методами они пользовались для определения геологической структуры месторождения. Он ответил: „Методом авось“.
К концу 1970 года „Бритиш петролеум“ объявила об открытии месторождения „Фортис“ на британской стороне, в сотне миль к северо‑западу от Экофиск. Это был огромный нефтеносный пласт. В 1971 году последовал ряд других открытий, в том числе открытие „Шелл“ и „Экссон“ огромного месторождения „Брент“. Северное море охватило волнение. Нефтяной кризис в 1973 году превратил его в настоящую бурю.
Большой удачей была работа над созданием нового поколения технологий, которые либо уже использовались, либо находились в стадии разработки – они позволили начать нефтедобычу в Северном море, районе, который никогда прежде и не пытались разрабатывать. Это предприятие было рискованным и опасным как в географическом, так и в экономическом плане. Бур должен был пройти через толщу воды до глубины, на которую ранее никто не опускался, а затем вести бурение еще на четыре мили в глубь морского дна. И при всем этом и оборудованию, и рабочим приходилось справляться с недружественным и коварным морем и с самой ужасной погодой в мире. „Нет более злобного существа, чем Северное море, когда оно показывает свой характер“, – жаловался один из капитанов. Погода была не просто отвратительной, она еще и менялась по три‑четыре раза на день, буквально за несколько часов мог разыграться шторм, не редки были волны высотой в 50 футов и шквальные ветры силой 70 миль в час. Стационарные платформы, с которых качали нефть, – в сущности, небольшие промышленные городки на созданных человеком островках – приходилось не только устанавливать на вязких, песчаных или глинистых основаниях, но и обеспечивать таким запасом прочности, чтобы они выдержали ярость „столетней волны“ высотой 90 футов и ветра в 130 миль в час.
В целом разработка месторождения в Северном море была одним из крупнейших инвестиционных проектов в мире, дороговизну которого постоянно увеличивала инфляция. Он был также и чудом, созданным новейшими технологиями. И он осуществлялся поразительно быстрыми темпами. 18 июня 1975 года на торжественной церемонии, устроенной на старом танкере в устье Темзы, британский министр энергетики Антони Веджвуд открыл заслонку. Первая североморская нефть потекла к берегу, на нефтеперерабатывающий завод. Выражая общий энтузиазм, Бенн публично заявил, что с этого времени 18 июня должно стать национальным праздником. Однако ему лично вся церемония не доставила большого удовольствия. Бенн был лидером левого крыла Лейбористской партии, ярым приверженцем национализации и испытывал врожденное отвращение к капитализму, особенно в нефтяной промышленности. К тому же он был чрезвычайно недоверчив по натуре. В своем дневнике он кисло отметил, что был вынужден участвовать в церемонии, где присутствовал „полный набор представителей международного капиталистического и британского истеблишмента“. И что, когда он открыл заслонку, добавил он с огромным подозрением, нефть „якобы пошла к берегу“.
Бенн нашел более эффективный выход своему враждебному отношению к нефтяным монополиям – в повторении традиционной битвы между правительствами и нефтяными компаниями он играл в Великобритании ведущую роль. Резервы Северного моря были разведаны и риск значительно ослаблен, и тогда британское правительство решило, что оно так же, как и многие другие правительства, хочет получать значительно большую долю ренты и больший контроль над их „судьбой“ вплоть, возможно, до немедленной национализации. „Чтобы не платить налоги, нефтяные компании перепрыгивают через государственные границы, словно кенгуру через изгороди, когда за ним гонятся дикие собаки динго“, – возмущался первый заместитель Бенна лорд Баллог. Результатом этой борьбы было введение специального налога на доходы от нефти и образование новой государственной нефтяной компании „Британская национальная нефтяная корпорация“. Она получила право на владение долей государственного участия, дававшее право на покупку 51 процента североморской нефтедобычи, и должна была защищать государственные интересы, осуществляя наблюдение за разведкой и добычей североморской нефти частными компаниями. Стремление британского правительства увеличить свои доходы и контроль над нефтью Северного моря вынудило президента одной компании в конце концов с возмущением заявить: „Я больше не вижу никакой разницы между странами ОПЕК и Великобританией!“
Примерно о том же думал и премьер‑министр Великобритании Гарольд Вильсон, сидя в своем кабинете на втором этаже дома на Даунинг‑стрит и покуривая свою трубку летом 1975 года через несколько недель после церемонии открытия, когда из Северного моря пошли первые баррели нефти. Вильсон занимал пост премьера уже не первый срок. Он также внес выдающийся вклад в политическую теорию, произнеся слова, которые были достойны, чтобы их выгравировали на стенах всех парламентов и конгрессов мира: „В политике неделя – это огромный период времени“. Вильсон впервые пришел к власти в 1964 году с предвыборным обещанием довести косную Великобританию до „белого каления технической революции“, но сейчас, десятилетие спустя, наилучшим экономическим шансом Великобритании было, по‑видимому, не развитие компьютерных сетей и не космические исследования, а технология разработки нефти. В тот летний день Вильсон раздумывал о том, как британская нефтедобыча, начавшись с ручейка, достигнет, возможно, многого и, преобразив экономические перспективы Великобритании, конечно, повлияет на баланс нефтяной власти в мире. Он уже ощущал себя премьер‑министром богатой нефтью страны. А в это же время администрация Форда вела кампанию против повышения цен на нефть. „Мы крайне заинтересованы в том, чтобы цены на нефть не упали слишком низко, – сказал Вильсон. – Если Америка и хочет снизить цены, еще не значит, что многие здесь с этим согласятся“.
Во всем этом присутствовала большая доля иронии. Вильсон сидел в кабинете, который два десятилетия назад принадлежал Энтони Идену. В то время Идеи сражался за судьбу Суэцкого канала с Насером, с арабским национализмом и угрозой прекращения поставок нефти. В 1956 году эта угроза была настолько серьезной, что Идеи принял решение прибегнуть к военной силе, предприняв военные действия в зоне канала, что в конечном счете определило ликвидацию исторической роли Европы на Ближнем Востоке – и, безусловно, стало концом карьеры Идена. Такая судьба Вильсону не грозила. Он даже признался в честолюбивом замысле, который вызвал бы у Идена шок. Он уже видел себя лидером новой рождавшейся крупной нефтяной державы и добродушно заметил, что к 1980 году он надеется, возможно, стать президентом ОПЕК.
„РАЗВЯЗКА“
Одним из своеобразных последствий ценового шока в 1973 году было появление новой сферы деятельности – прогнозирования цен на нефть. До 1973 года в этом не было необходимости – изменения цен шли на центы, а не на доллары, и в течение многих лет цены на все категории нефти были более или менее одинаковы. Однако после 1973 года прогнозирование расцвело пышным цветом. В конце концов, движение цен стало теперь решающим фактором не только для всех отраслей энергетики, но и для потребителей, для множества предприятий, начиная от авиакомпаний и банков, сельскохозяйственных кооперативов, правительств и вообще для всей мировой экономики. Теперь прогнозированием цен, казалось, занимались все. В нем участвовали нефтяные компании, правительства, им занимались центральные банки и международные организации, занимались брокерские фирмы и банкирские дома. Это даже вызывало в памяти рефрен песенки Коула Портера*: „Это делают птички, это делают пчелки, даже дрессированные блохи делают это“.
Этот вид прогнозирования, как и прогнозирование вообще, в экономике был одновременно и искусством, и наукой. Главное место в нем занимали суждения и предположения. Более того, на его характере сказывалось огромное влияние той среды „сообщества“, в котором оно велось. Таким образом, прогнозирование представляло собой и психологический, и социологический феномен, отражавший влияние главных действующих лиц, а также тот инстинктивный поиск уверенности и обоюдного спокойствия, которые в шатком мире неопределенности стремились обрести различные группы и индивиды. Конечным результатом часто была четко выраженная тенденция к достижению консенсуса, даже если его направленность полностью менялась каждую пару лет.
Конечно, к концу 1978 года такой консенсус присутствовал во всем сообществе нефтяных прогнозистов и в среде тех, кто принимал решения на основе их прогнозов: несмотря на то, что к началу или середине восьмидесятых годов Аляска, Мексика и Северное море дадут на мировые рынки от 6 до 7 миллионов баррелей в день, эти новые источники, как ожидалось, послужат лишь дополнением и выступят в роли медлительного Фабия, сдерживая и отодвигая, но решительно не ликвидируя неизбежный день нехватки и расплаты. И вероятность нового нефтяного кризиса примерно лет через десять, во второй половине восьмидесятых годов, когда спрос достигнет крайнего уровня доступных поставок, чрезвычайно велика. На обычном языке это означало, что между спросом и предложением возникнет „энергетическая пропасть“, то есть нехватка нефти. Следуя экономической науке, любая такая разбалансированность решилась бы путем еще одного огромного повышения цен и вызвала бы второй нефтяной шок, подобный происшедшему в начале семидесятых годов. Хотя в прогнозах присутствовал и некоторый разброс мнений, по главным направлениям наблюдалось существенное единогласие, независимо от того, исходило ли оно от нефтяных монополий, ЦРУ, западных правительств, международных агентств, известных независимых экспертов или самой ОПЕК. Едиными были не только прогнозисты, но и те, кто принимал решения и полагался на прогнозы, выбирая свой путь действий в политике и вложении инвестиций.
Общим важнейшим фактором, лежавшим в основе этого общего мнения, была вера в „железный закон“ – то есть в неизбежную тесную связь между темпами экономического роста и темпами потребления энергии и нефти. Если экономический рост составлял 3‑4 процента в год, как вообще предполагалось, то и спрос на нефть будет также ежегодно расти на 3‑4 процента. Другими словами, получение дохода было главной детерминантой в потреблении энергии и нефти. И фактические данные в 1976,1977 и 1978 годах, казалось, подтверждали эту оценку. В эти последние три года экономический рост после глубокого спада снова проявился и составил в среднем 4,2 процента, а спрос на нефть вырос в среднем примерно на 4 процента. Вырисовывавшаяся картина будущего мира таким образом была проекцией тогдашних обстоятельств: растущие экономики будут по‑прежнему опираться на растущий объем нефти. Экономический прогресс в развивающихся странах должен был повысить этот спрос. Будущие результаты энергосбережения были сведены на нет. Сцена для повторения событий 1973 года была готова. [Прим. пер. Коул Портер – композитор и автор текстов многих мюзиклов, вошедших в классику бродвейского театра, и сотен популярных песенок.]
Ахмед Заки Ямани, главный сторонник программы Долгосрочной стратегии для ОПЕК, начал отходить от своей постоянной защиты стабильности в ценах и выступил за регулярные небольшие повышения, что способствовало бы энергосбережению и разработке альтернативных источников энергии. Это, говорил он, имело бы гораздо более желательный и менее дестабилизирующий эффект, чем насильственное повышение цен, которого все ждут. „На основании наших исследований и всех надежных источников, с которыми я ознакомился, – сказал он в июне 1978 года, – можно уверенно сделать вывод, что где‑то в середине восьмидесятых годов, если не раньше, наступит дефицит поставок нефти…Что бы мы ни предпринимали, это время приближается“.
Ямани высказывал точку зрения, уже ставшую общей в информированных кругах и экспортеров, и импортеров нефти. Даже в Вашингтоне некоторые, видя падение реальной цены на нефть и растущий спрос, уже считали, что скорейшее умеренное повышение цен значительно бы облегчило трудности в дальнейшем. Лет через десять, годом раньше или годом позже, развязка, безусловно, должна была наступить. Но все также соглашались и с тем, что в сложившейся обстановке ничто не указывает на какие‑либо большие повышения цен в ближайший период. Это была точка зрения, основывавшаяся на экономической науке. Политика, конечно, была совсем другим делом: она никогда с легкостью не вписывалась в модели темпов экономического роста и гибкости спроса. Все же ее нельзя было и не учитывать. И политика отнюдь не собиралась позволить кому‑либо роскошь долгосрочной стратегии.
В последний день 1977 года президент Джимми Картер, совершая вояж по трем континентам, на пути из Варшавы в Дели прибыл в Тегеран. Он сказал, что миссис Картер хотела бы встретить Новый год вместе с шахом и его супругой – настолько прелестным было время, которое семья Картеров провела в обществе монаршей четы, когда шесть недель назад они посетили Вашингтон. Однако помимо приятных воспоминаний в выборе Картера играли роль и задачи внешнеполитической доктрины „реальной политики“. На Картера шах произвел очень сильное и благоприятное впечатление: он предпринимал значительные шаги в направлении либерализации и говорил о соблюдении прав человека. При таком новом взаимопонимании Картер имел теперь возможность оценить стратегическую роль Ирана и его лидера в большей степени, чем прежде, когда он только что стал президентом. Иран был той опорой, которая необходима для поддержания стабильности в регионе. Он был главной силой в противостоянии мощи и амбициям не только Советского Союза в регионе, но и радикальным и антизападным силам. Его роль была определяющей для обеспечения безопасности мировых поставок нефти как одного из двух основных мировых экспортеров нефти, и как сильной региональной власти. Картер хотел также выразить благодарность шаху за его действия в соблюдении прав человека и за изменение позиции по вопросу о ценах на нефть, что рассматривалось как главная уступка со стороны этого монарха. Более того, президент испытывал чувство сожаления и неловкости по поводу беспорядков и применения слезоточивого газа во время прибытия шаха на Южную лужайку Белого дома. И он хотел рассеять какое‑либо непонимание как в Иране, так и за его пределами и твердо подчеркнуть неизменность американской поддержки. Итак, на ужине в канун Нового года он встал, чтобы произнести свой незабываемый тост. „Иран, – говорил он, – благодаря замечательному руководству шаха – это надежный островок стабильности в одном из наиболее неспокойных регионов мира. В этом Ваша заслуга, Ваше величество, и заслуга Вашего руководства, дань того уважения, восхищения и любви, с которыми Ваш народ относится к Вам“. На этой возвышенной и многообещающей ноте президент и шах встретили наступивший 1978 год.
Однако не все видели этот островок стабильности таким, как о нем говорил президент. Вскоре после визита Картера из поездки в Тегеран вернулся президент одной из независимых американских компаний, активно работавших в Иране. У него было конфиденциальное сообщение, с которым он должен был срочно ознакомить своего директора.
„Шаху, – сообщил он, – грозят серьезные неприятности“.
ГЛАВА 33. ВТОРОЙ ШАГ: СНОВА ПАНИКА
Через неделю после отъезда Джимми Картера из Ирана одна из тегеранских газет опубликовала статью с резкими нападками на непримиримого противника шаха, пожилого шиитского священнослужителя аятоллу Рухоллу Хомейни, находившегося в то время в изгнании в Ираке. Статья была анонимной, но по всему было видно, что написал ее один из должностных лиц шахского режима. По‑видимому, визит Картера придал уверенности шахскому правительству. Статья, несомненно, явилась результатом все большего раздражения резкими нападками самого Хомейни на шаха и его правительство, тайно распространявшимися на кассетах по всему Ирану.
Враждебность между монаршим домом Ирана и фундаменталистами доминирующего в стране течения ислама восходила еще к временам отчаянной борьбы за власть шаха Реза с шиитским духовенством в двадцатые и тридцатые годы и была частью более широкой борьбы между светскими и религиозными силами. Но статья в газете от 7 января 1978 года положила начало совершенно новому этапу в этой борьбе.
КРАХ ИЛЛЮЗИЙ И ОППОЗИЦИЯ
В середине семидесятых годов стало ясно, что Иран не в состоянии поглотить поступавший в страну огромный приток нефтяных доходов. Нефтедоллары бездумно растрачивались на экстравагантные профаммы модернизации, пропадали в результате ненужных расходов и коррупции, порождая экономический хаос и политическую нестабильность. Сельское население устремилось в уже и так перенаселенные города: производство сельскохозяйственной продукции сокращалось, а импорт продовольствия возрастал. В стране господствовала инфляция, неизбежно порождающая всеобщее недовольство. В Тегеране средний служащий или чиновник расходовал до 70 процентов своей зарплаты на наем жилья. Инфраструктура Ирана не справлялась с внезапно свалившейся на нее нафузкой: устаревшая железнодорожная система была парализована, на улицах Тегерана постоянно возникали пробки. Национальная энергосистема, не выдержав нафузок, вышла из строя. В отдельных районах Тегерана и в других городах регулярно отключалось электричество, иногда на четыре‑пять часов в день – что гибельно сказывалось на работе промышленности и создавало сложности в быту, являясь еще одним дополнительным источником возмущения и недовольства.
Беспорядочно проводимая шахским режимом модернизация истощила терпение иранцев во всех слоях общества. В поисках хоть какой‑то уверенности они все более прислушивались к призывам традиционного ислама и поднимавшего голову фундаментализма. Набирал очки аятолла Хомейни, религиозные устои и несгибаемая стойкость которого делали его знаменем оппозиции шаху и его режиму и вообще всему образу жизни Ирана середины семидесятых годов. Родившийся примерно в 1900 году в небольшом городке в 180 милях от Тегерана, Хомейни был выходцем из семьи священнослужителей. Его отец умер через несколько месяцев после его рождения – как говорили некоторые, был убит каким‑то чиновником во время паломничества. Мать он потерял, будучи подростком. Смыслом его жизни стала религия, и в тридцатые и сороковые годы он был уже известным лектором по философии ислама и юриспруденции, пропагандируя концепцию исламской республики под твердым контролем духовенства.
Режим Пехлеви он уже многие годы считал коррумпированным и незаконным. Но активную политическую деятельность начал вести, когда ему было где‑то около шестидесяти лет, став одной из ведущих фигур в оппозиции „белой революции“, как шах с гордостью называл свою программу реформ. В 1962 году Хомейни резко выступил против предложения допускать в места общих собраний не только мужчин‑мусульман. Когда же в ходе „белой революции“ правительство начало перераспределение огромных земельных владений, в том числе и шиитского духовенства, Хомейни был одним из его наиболее непримиримых противников. Он несколько раз подвергался арестам и в конечном счете оказался в эмиграции в Ираке. Его ненависть к шаху можно было сравнить только с его ненавистью к Соединенным Штатам, которые он считал главной опорой режима Пехлеви. Его страстные обличения из ссылки в Ираке были окрашены риторикой крови и мести: им, по‑видимому, двигал гнев невиданной силы, и вскоре он стал тем центром, вокруг которого объединялось растущее недовольство. Слова других аятолл, с более умеренными взглядами, заглушались резким и бескомпромиссным голосом изгнанника.
В оппозиции возникли и другие причины для недовольства. С выдвижением Картера на пост президента от Демократической партии и затем его победой на выборах в 1976 году одним из главных направлений американской внешней политики стали права человека. А положение с правами человека у шаха в стране было не из лучших. Оно было характерным для большинства государств „третьего мира“ и несколько лучшим, чем в некоторых из стран этого региона. Один из членов Международной комиссии юристов – главный критик шаха, изучавший положение с правами человека в Иране в 1976 году – отмечал, что шах был „в самом низу списка тиранов. Он даже не попадал в список главных из них“. Тем не менее САВАК, иранская тайная полиция, продолжала свирепствовать. Она действовала исключительно жестоко, быстро и прибегала к страшным пыткам; она отличалась произволом, глупостью и проникновением во все поры общественной и частной жизни. Все это не вписывалось в образ Великой цивилизации, амбициозной программы, которая должна была превратить Иран в мировую державу и ввести его в первую пятерку промышленно развитых стран. А тем временем шах продолжал поучать индустриальный мир и обличать его типичные изъяны. Так, нарушения прав человека в Иране становились более видимыми и гораздо более известными, чем в других развивающихся странах, что еще усиливало враждебное отношение к шаху и его режиму как в самом Иране, так и за его пределами. Сам шах ощущал огромное давление по вопросу прав человека со стороны Соединенных Штатов, но как это ни парадоксально, даже с ростом критики он был полон решимости продолжать курс политической либерализации.
„ПРОТЕСТЫ КАЖДЫЕ 40 ДНЕЙ“
В июне 1977 года выступления Хомейни стали еще более яростными, когда при странных обстоятельствах был убит его старший сын. Убийство приписывали тайной полиции САВАК. Затем 7 января 1978 года появилась уже упомянутая статья в газете. В ней осмеивался Хомейни, ставились под сомнение его религиозные полномочия и высказывания, его иранское подданство и выдвигались недвусмысленные обвинения в совершенных им аморальных поступках, в том числе и в авторстве рискованных любовных сонетов, написанных им в молодости. Эти журналистские нападки на Хомейни спровоцировали волнения в святом городе шиитов Куме, который оставался его духовным домом. Были вызваны войска. Среди демонстрантов были многочисленные жертвы. События в Куме дали толчок новому витку конфронтации между мусульманским религиозным руководством и правительством, принявшей очень специфическую форму. Шиитская ветвь ислама предусматривала период траура в сорок дней. Как и предполагалось, в последний день траура по убитым в Куме прошли новые демонстрации, принесшие еще большее число смертей. За ними снова последовал траурный период и после его окончания снова демонстрации – снова новые смерти. Один из лидеров этого не ослабевавшего цикла протестов позднее назвал его „периодом протестов каждые 40 дней“. Бунты и демонстрации распространились по всей стране, порождая все новые столкновения, большее число убитых и большее число мучеников.
Наступление полиции и армии на критиков режима лишь увеличивало и укрепляло ряды антишахской оппозиции. Отмена стипендий в шиитской общине священнослужителей вызвала еще большее отчуждение и возмущение духовенства. Действительно, открытая оппозиция уже становилась частью всей национальной жизни страны. Тем не менее всю первую половину 1978 года ее значение сбрасывалось со счетов. Да, сказал шах британскому послу, ситуация серьезная, но он полон решимости несмотря ни на что идти дальше и продолжать либерализацию. Его самые непримиримые враги, и самые сильные, это – муллы, которые владеют умами масс. „Компромисс с ними был невозможен, – продолжил шах. – Это была открытая конфронтация, и одна из сторон должна была проиграть“. Из слов шаха становилось ясно, что он никак не представляет себя в качестве проигравшей стороны.
В правительстве США также вряд ли кто‑либо предполагал, что режим шаха падет. Для Вашингтона любая альтернатива была немыслима. В конце концов могущественный монарх Ирана занимал трон уже тридцать семь лет. Он пользовался расположением всего мира. Он осуществлял модернизацию своей страны. Иран был одной из двух крупнейших мировых нефтяных держав, располагая богатством, которое превышало все, о чем несколько лет назад было известно. Шах был важнейшим союзником, региональным полицейским в важнейшем регионе, „главной опорой“. Как же он мог быть низвергнут?!
Американские разведывательные данные по Ирану были довольно ограничены. С ростом зависимости США от шаха усилилось и нежелание идти на риск и вызывать его гнев, пытаясь установить, что происходит в рядах оппозиции, которую он презирал. В Вашингтоне, как ни странно, было очень мало специалистов по Ирану, способных дать аналитический анализ ситуации. И вплоть до самого последнего времени на него, по‑видимому, и не было большого спроса среди „потребителей“ разведывательных данных – как иногда называют членов Совета национальной безопасности. Они, возможно, считали его ненужным для оценки стабильности шахского режима, или же опасались, что на каком‑то уровне выводы окажутся слишком неудобоваримыми. „Просто нельзя было предоставлять данные по Ирану, – таков был комментарий одного аналитика из разведки, озабоченного положением в Иране.
На протяжении всего 1978 года американское разведывательное сообщество пыталось собрать воедино все разведданные по Ирану и подготовить на их основе доклад, дающий оценку ситуации в стране, но так и не смогло этого сделать. С одной стороны, поступала масса ежедневных сообщений, с другой, огромная трудность заключалась в установлении взаимосвязи и роли всех в корне различных сил оппозиции. В середине августа бюллетень госдепартамента „Морнинг саммари“ предположил, что шах теряет контроль и что социальный строй Ирана переживает процесс распада. Но уже 28 сентября 1978 года в докладе разведывательного управления Пентагона говорилось, что, „как полагают, в ближайшие десять лет шах останется у власти“. Ведь он, выдвигалось в качестве обоснования, преодолел и не менее серьезные кризисы в прошлом.
И тем не менее различные признаки, некоторые особенно неприятные и зловещие, говорили о ярости и неистовстве сил оппозиции, которые поднимаются против шаха. В августе 1978 года в течение двух недель фундаменталисты, выступавшие против показа „греховных“ картин, подожгли в стране свыше полдесятка кинотеатров. В середине августа в Абадане, городе, где был расположен гигантский нефтеперерабатывающий комплекс, при поджоге кинотеатра сгорели заживо все находившиеся в переполненном зале 500 человек. Хотя преступники и не были установлены, считалось, что это дело рук фундаменталистов. В начале сентября кровавые события разыгрались и во время демонстраций в самом Тегеране. Это был поворотный пункт в развитии событий. С этого момента правительство шаха начало терять силу. Все же шах продолжал осуществлять свою программу либерализации, в том числе шла речь и о свободных выборах в июне 1979 года.
Тем, кто имел доступ к монарху, казалось, что с ним что‑то неладно. Он выглядел далеким и отстраненным. Уже несколько лет ходили слухи о том, что он нездоров. Не рак ли у него? Или какая‑то неизлечимая венерическая болезнь? 16 сентября британский посол снова посетил шаха. „Меня поразила перемена в его внешности и в манере держаться, – сказал он. – Он как‑то сморщился, лицо его стало желтым, движения замедленными. Он казался выжатым и морально, и физически“. Дело заключалось в том, что у шаха действительно был рак, точнее, вид лейкемии, которую французские врачи диагностировали еще в 1974 году. Но в течение нескольких лет серьезность этого заболевания скрывалась и от шаха, и от его супруги. Во всяком случае, сам он настаивал на соблюдении строжайшей секретности в характере лечения. Позднее в Вашингтоне подозревали, что кому‑то во французском правительстве так или иначе было известно о болезни шаха. Британское и, безусловно, американское правительства же ничего об этом не знали. Если б они были информированы о самом факте и характере его заболевания, расчеты по многим параметрам могли бы быть совершенно иными. Со временем болезнь шаха все больше давала о себе знать, и он стал бояться возможного исхода, чем можно отчасти объяснить нерешительность, странную отстраненность, даже постоянное чувство беспокойства и фатализм, который, по‑видимому, его охватывал.
„КАК СНЕГ ПОД ДОЖДЕМ“
Политическая ситуация в стране ухудшалась, но шах по‑прежнему проявлял нерешительность. Он опасался начать тотальную войну против все возраставшего числа бунтующих: за всеми его действиями слишком пристально наблюдало „мировое общественное мнение“. К тому же это был его народ. Но он не хотел и признать себя побежденным. Более того, его сбивали с толку противоречивые указания, исходившие от правительства США. Снова и снова он высказывал свои подозрения, что американское ЦРУ, британская разведка – и Би‑Би‑Си, горячая линия связи между его противниками – готовят против него заговор, хотя и по не вполне ясным причинам.
Проходили недели, и все большую часть страны охватывали забастовки, в том числе и технического персонала в нефтяной промышленности. В начале октября 1978 года по настоянию Ирана аятолла Хомейни был выслан из Ирака: баасистский режим Багдада опасался своего шиитского населения. Получив отказ Кувейта принять его, Хомейни отправился во Францию и вместе со своей свитой обосновался в пригороде Парижа. Иранское правительство, возможно, и полагало, что, как говорят, с глаз долой – из сердца вон, но оно ошибалось. Франция обеспечила Хомейни доступ к прямой телефонной связи, которую шах ранее установил в Тегеране, что намного облегчило общение Хомейни со своими сторонниками. Пожилой разгневанный священнослужитель, так мало знавший западный мир и относившийся к нему с таким презрением, тем не менее оказался большим мастером пропаганды в средствах массовой информации, представители которых располагались лагерем у его порога.
Тем не менее шах продолжал проводить программу либерализации. Провозглашались академические свободы, свобода прессы, свобода собраний – но все эти права западного образца мало интересовали население, которое поднималось на борьбу против монарха, против его династии и против всего процесса модернизации. В конце октября шаху оставалось только сказать „с каждым днем наши силы тают, как снег под дождем“. Забастовки парализовали экономику и деморализовали правительство, студенты вышли из‑под контроля, демонстрации и беспорядки нельзя было остановить.
В иранской нефтяной промышленности нарастал хаос. Главный район нефтедобычи в Иране называли „Поля“. Находившийся на юго‑востоке страны, онвключал Месджеде‑Солейман, где в 1908 году „Англо‑персидская компания“ впервые открыла нефть. Теперь, через семьдесят лет „Поля“ находились в руках компании „Ойл сервис компани оф Иран“, „Оско“, которая образовалась на основе консорциума, учрежденного в 1954 году после падения правительства Мо‑саддыка и возвращения шаха. Штаб‑квартира „Оско“, где работали главным образом бывшие служащие входящих в нее компаний, находилась в Ахвазе, примерно в восьмидесяти милях к северу от Абадана. В октябре бастующие иранские рабочие с промыслов заняли ее главное здание. Никто не пытался их изгнать. К ноябрю в здании штаб‑квартиры находилось уже около двух сотен человек, которые ели и спали в коридорах, следуя своей тактике давления на „Оско“ и „Иранскую национальную нефтяную компанию“. Продолжавшие работать западные специалисты, следуя по коридорам, старательно обходили рабочих, стараясь не наступить на них. Тем временем во дворе здания уже шли стихийные митинги. Сначала в них участвовало не более десятка человек. Но вскоре из окон офисов было видно, что толпа скандировавших правоверных достигала уже нескольких сотен.
Результат забастовок не заставил себя ждать. Иран был вторым после Саудовской Аравии крупнейшим экспортером нефти. Из ежедневно добывавшихся в Иране 5,5 миллиона баррелей нефти около 4,5 миллиона шли на экспорт, остальное потреблялось внутри страны. К началу ноября экспорт не достигал и миллиона баррелей в день, и тридцать танкеров простаивали у погрузочной площадки в ожидании нефти, которой не было как раз в то время, когда на мировых рынках в ожидании зимы возрастал спрос. Нефтяные компании, учитывая общую вялость рынка, расходовали свои резервы. Возникнет ли на мировом рынке нехватка нефти? Более того, стабильность самого Ирана зависела от нефтяных доходов: они были основой всей его экономики. Глава „Иранской национальной нефтяной компании“ отправился на юг, на нефтепромыслы „Полей“, чтобы установить диалог с забастовавшими рабочими – во всяком случае, так он предполагал. Когда же он туда прибыл, возмущенные рабочие его избили. Он мгновенно решил отказаться от всех переговоров и укатил из страны. Положить конец забастовке, по‑видимому, не было никакой возможности.
Пытаясь сдержать растущий хаос, шах пошел на крайнюю меру, создание военного правительства – шаг, которого он всегда стремился избежать. Это был последний шанс. Но во главе он поставил слабого генерала. Вскоре у руководителя иранского военного правительства случился сердечный приступ, и он так и не успел реализовать свою власть. Новое правительство смогло, по крайней мере временно, восстановить некоторый порядок в нефтяной промышленности и снова организовать работу на нефтепромыслах. В штаб‑квартиру „Оско“ в Ахвазе были введены солдаты, где они довольно неловко сосуществовали с забастовщиками, которые по‑прежнему располагались лагерем в коридорах.
По мере того, как события шли к развязке, политика Соединенных Штатов, самого главного союзника Ирана, по‑прежнему находилась в состоянии замешательства и разброда. В течение почти всего 1978 года государственные политики администрации Картера занимались другими глобальными и требовавшими неотложного внимания вопросами: подписанием Кэмп‑Дэвидских рамочных соглашений между Египтом и Израилем, переговорами по сокращению стратегических вооружений с Советским Союзом, нормализацией отношений с Китаем. Американская политика основывалась на предпосылке, что Иран является надежным союзником и останется главной опорой в регионе. Из уважения к шаху и опасений вызвать его гнев американские политики продолжали дистанцироваться от противников шахского режима, а это означало, что у них отсутствуют каналы информации о положении в рядах растущей оппозиции. В Вашингтон не поступало даже сообщений о содержании обращений аятоллы Хомейни, которые распространялись в Иране на ставших уже знаменитыми магнитофонных кассетах. Кое‑кто в Вашингтоне был убежден, что волнения в Иране являются результатом тайного заговора, за которым стоит Советский Союз. И, как и всегда, возникал один и тот же вопрос: что может правительство Соединенных Штатов предпринять при любом варианте развития событий? Лишь очень немногие вашингтонские политики считали, что иранские военные смогут противостоять напору всеобщих забастовок и переходу на сторону бастующих религиозно настроенных солдат. Действительно, в последние несколько месяцев 1978 года в Вашингтоне ожесточилась борьба мнений относительно направления политического курса по отношению к Ирану. Как помочь шаху, как обеспечить сохранность дружественного режима? Как оказать поддержку шаху, чтобы в случае его падения не создать антагонистических отношений с его преемником? Как при необходимости отмежеваться, не повредив положению шаха, если он удержит политическую власть? Нерешительность и колебания в Вашингтоне приводили к противоречивым советам Ирану: шах должен быть жестким, шах должен отречься, надо использовать для подавления забастовок армию, следует соблюдать права, осуществить военный переворот, военные должны оставаться в стороне, должно быть введено регентство. „От Соединенных Штатов не поступило ни одной четкой и последовательной рекомендации, – вспоминал один из ведущих политиков. – Чем бросаться из одной крайности в другую и не принимать никакого последовательного решения, мы достигли бы лучших результатов, если бы сделали выбор, подбросив монетку“. Разнобой мнений со стороны Соединенных Штатов безусловно дезориентировал шаха и его правительство, мешал их расчетам и коренным образом ослаблял решительность. К тому же никто в Вашингтоне не знал, насколько болен был шах.
Поспешные попытки выработать какую‑то новую американскую позицию осложнял и тот факт, что средства массовой информации в Соединенных Штатах и в других странах проявляли крайнюю враждебность к шаху, что в результате образовывало хорошо знакомую схему – критику с моралистических позиций политики Соединенных Штатов плюс проецирование на нее романтического и нереалистичного представления о Хомейни и его целях. Один известный профессор писал в „Нью‑Йорк Тайме“ о религиозной терпимости Хомейни, о том, что „его окружение целиком состоит из людей с умеренными и прогрессивными взглядами“, а также о том, что Хомейни создаст „так крайне необходимую модель гуманного правления для страны третьего мира“. Постоянный представитель США при ООН Эндрю Янг пошел еще дальше: Хомейни, говорил он, в конечном счете будет отнесен в лику „святых“. В растерянности президент Картер был вынужден немедленно заявить, „что Соединенные Штаты не осуществляют канонизацию“.
Отсутствие последовательности и согласованности мнений было настолько велико, что один государственный деятель, занимавшийся с шестидесятых годов урегулированием всех ближневосточных кризисов, отметил такой „экстраорди нарный“ факт, что „первое систематическое совещание“ на высшем уровне по Ирану не созывалось до начала ноября – когда было уже слишком поздно. 9 ноября 1978 года американский посол в Тегеране Уильям Салливен направил в Вашингтон доклад под названием „Мысли о немыслимом“. Посол выражал сомнение в способности шаха удержаться на троне и предлагал незамедлительно приступить к разработке планов защиты и обеспечения американских интересов в Иране. Но в Вашингтоне, где полным ходом шли бюрократические баталии, не последовало какой‑либо значимой реакции, за исключением того, что президент Картер направил госсекретарю, советнику по вопросам национальной безопасности, министру обороны и директору ЦРУ короткие, написанные от руки записки с вопросом, почему его прежде не информировали о ситуации в Иране. А посол Салливен окончательно убедился в том, что при сложившейся ситуации в Иране у Соединенных Штатов нет „какой‑либо определенной политической линии“.
„ПОТОКИ КРОВИ“
Декабрь 1978 года был у шиитов месяцем траура, торжественных процессий и самобичевания. Главной датой шиитского религиозного календаря был Ашура – день поминовения мученика имама Хусайна, символизирующий неослабное сопротивление нелегитимным тиранам. Хомейни обещал, что это будет месяц мести и „потоков крови“. Он взывал к появлению новых мучеников. „Пусть они убьют пять тысяч, десять тысяч, двадцать тысяч человек, – заявил он. – Мы докажем, что кровь сильнее меча“. По всей стране прошли огромные демонстрации, настолько огромные, что повергали в ужас своими масштабами. Казалось, объединились все силы оппозиции. Армия на глазах распадалась. У шаха уже не оставалось никакого выбора. „Диктатор может сохранять власть, убивая свой народ, – монарх не может действовать таким образом“, – сказал он в частной беседе. Но что ему оставалось делать? И в дополнение ко всем понесенным им оскорблениям и унижениям добавился еще и телефонный звонок. Шаху сообщили, что из Вашингтона звонит сенатор Эдвард Кеннеди. Несомненно, внутренне приготовившись к разговору с одним из главных американских либералов и защитником прав человека, шах взял трубку, лишь чтобы услышать, как спокойный голос снова и снова, словно заклинание повторял: „Мохаммед, отрекись от трона, Мохаммед, отрекись…“
Специальная группа в „Ойл сервис компани“ уже исподволь начала готовить план эвакуации из „Полей“ 1200 иностранных нефтяников и членов их семей. Она подбирала карты, отыскивая в пустыне взлетно‑посадочные полосы, которые пригодились бы на тот случай, если аэропорты будут закрыты. Но к этой работе не относились слишком серьезно. Затем однажды днем Джордж Линк, человек „Экссон“ и главный менеджер в „Оско“, возвращался на работу после обеда. Когда водитель вышел из машины, чтобы открыть ворота, из кювета поднялся человек и что‑то бросил в машину. Линк инстинктивно распахнул дверцу и выскочил. Через несколько секунд раздался взрыв. После этого к подготовке планов эвакуации стали относиться с полной серьезностью.
Забастовки снова охватили „Поля“. Нефтедобыча опять резко упала. Обстановка в „Полях“ была чрезвычайно напряженной. Помощником генерального менеджера был в то время Пол Гримм, приглашенный из „Тексако“. По своему положению он входил в прямой контакт с рабочими. Огромного роста, прямолинейный в своих требованиях, Гримм предупредил тех иностранных рабочих, которые из страха и смятения присоединились к забастовщикам, что, если они немедленно не приступят к работе, то будут уволены, и что он в свою очередь намерен положить конец забастовкам. В середине декабря, по дороге на работу, в него стреляли из шедшей сзади машины. Пуля попала ему в голову и он погиб. Теперь началась поспешная эвакуация членов семей.
К 25 декабря, празднику Рождества, экспорт нефти из Ирана полностью прекратился. Это оказалось поворотным моментом на мировом нефтяном рынке. В Европе при продаже на рынке наличного товара цены мгновенно превысили официальные на 10–20 процентов. Сокращение нефтедобычи лишило Иран также и нефти для внутреннего рынка. В Тегеране выстраивались длинные очереди к бензоколонкам, независимо от того, как бы мала ни была норма отпускавшегося бензина, а также керосина, служившего обычным топливом для приготовления пищи. Поддерживая порядок в очередях, солдаты время от времени стреляли в воздух. Рабочие на промыслах отказывались отпускать горюче‑смазочные материалы военным, способствуя тем самым их блокированию. Наконец при парадоксальной перемене ролей, в Иран был перенаправлен американский танкер с грузом столь необходимой нефти. Все следующие напряженные недели танкер оставался в районе Персидского залива, то стоя на якоре неподалеку от берега, то поднимаясь вверх по реке к Абадану. Но он так и не смог перекачать свой груз, поскольку достаточно безопасных условий для этого создать не удалось.
„Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ УСТАЛЫМ“
В конце декабря в правящих кругах было с большим трудом достигнуто соглашение о формировании коалиционного правительства, а также о том, что шах покинет Иран якобы для лечения за границей. Но сомнений относительно того, что в действительности происходит в Иране, уже было немного. Власть династии Пехлеви, по всей вероятности, заканчивалась. Так же, как по крайней мере на данное время и нефтедобыча в „Полях“. На следующий день после Рождества „Оско“ приняла решение эвакуировать всех своих служащих, граждан западных стран. Независимо от того, что происходило в Тегеране в непосредственной близости от трона либо в Вашингтоне, уезжавшие предполагали, что их отъезд является временным, скорее всего на несколько недель, самое большее на несколько месяцев, пока в стране не установится порядок. Таким образом, число вещей, которые им разрешалось взять с собой, ограничивалось двумя чемоданами. Они оставляли в целости свои дома со всем, что было внутри, в ожидании скорого возвращения. Они оказались в столь же затруднительном положении, что и нефтяники, которых Мосаддык вынудил покинуть Абадан в 1951 году – что делать с собаками, которых они не могли взять с собой. Не зная, сколько времени продлится их отсутствие, они поступили так же, как и их предшественники – вывели собак из домов и пристрелили или же забили палками.
Они собрались все в аэропорту в Ахвазе. Конечным пунктом их путешествия были Афины, где, как говорилось, они проведут время, осматривая достопримечательности и выжидая сигнала о возвращении. И снова наследники Уильяма Д'Арси Нокса и Джорджа Рейнолдса бесславно покидали Иран. Но в отличие от „прощания с Абаданом“ в 1951 году теперь не было ни почетного караула, ни оркестров, ни песен о полковнике Боги. Прежде Ахваз был оживленным аэропортом, принимавшим и отправлявшим многочисленные внутренние рейсы, плюс к этому непрекращавшийся поток небольших самолетов и вертолетов, сновавших туда и обратно на разные производственные участки. Но теперь все внутренние рейсы были отменены, нефтяная промышленность не работала, и небо над покинутым аэродромом в Ахвазе было пустым, молчаливым и тревожным.
8 января британский посол нанес шаху прощальный визит. Монархия, которая несмотря на все превратности судьбы сохранялась в течение почти полстолетия, завершила свой путь. Фантастические торжества в Персеполе, с которыми отмечалась 2500‑летняя годовщина персидской империи, были в прошлом, так же, как и ее власть. Александр Македонский, захватив в 330 году до н. э. Персе‑поль, сжег царский дворец; теперь аятолла Хомейни насмехался над монархом, провозгласившим себя наследником Персеполя. Мохаммед Пехлеви, подобно Волшебнику страны Оз, оказался в конечном счете простым смертным. Представление закончилось.
Беседуя с послом, шах был спокоен и равнодушен. Он говорил о событиях так, словно его лично они не касались. Обстановка была настолько тягостной, и посол был настолько взволнован, что, несмотря на все годы железной профессиональной закалки на дипломатической службе, у него на глаза навертывались слезы. Неуклюже пытаясь успокоить его, шах сказал: „Не переживайте, я хорошо понимаю ваши чувства“. При всем различии обстоятельств, в которых они находились, это было очень странное замечание. Шах говорил также о противоречивых советах, которые он продолжал получать. Затем он как‑то странно взглянул на часы: „Если бы это зависело от меня, я бы уехал – через десять минут. Представление действительно закончилось“.
Днем 16 января шах прибыл в аэропорт Тегерана. „Я чувствую себя усталым, мне нужно отдохнуть“, – сказал он небольшой группе собравшихся вокруг него людей, поддерживая патетическую версию о том, что он уезжает всего лишь в отпуск. Затем он поднялся по трапу в самолет и уже навсегда покинул Тегеран, увозя с собой шкатулочку с иранской землей. Его первая остановка предполагалась в Египте.
С отъездом шаха Тегеран охватило такое ликование, какого не видели со времени его триумфального возвращения в 1953 году. Гудели клаксоны и мигали фары автомашин, дворники на лобовых стеклах с прицепленными на них портретами Хомейни метались туда и обратно, толпы людей на улицах кричали, веселились и танцевали, один за другим выходили экстренные выпуски газет с незабываемым заголовком „Шаха больше нет!“. В Тегеране и по всей стране возбужденные толпы людей сбрасывали с пьедесталов огромные конные статуи отца шаха и его самого – династия Пехлеви превращалась в прах.
А кто же станет во главе страны? В Тегеране оставалось коалиционное правительство во главе с давнишним противником шаха. А 1 февраля 1979 года на зафрахтованном самолете „Боинг‑747“ авиакомпании „Эр‑Франс“ в Тегеран вернулся Хомейни. Его сопровождало множество западных журналистов – авиабилеты были проданы им для финансирования рейса. Сам Хомейни во время перелета отдыхал на полу, на ковре салона первого класса. Он привез с собой второе правительство – Революционный совет, возглавляемый Мехди Базарганом, чье прошлое как противника шаха было безупречно. Действительно, в 1951 году, двадцать восемь лет назад Мохаммед Мосаддык назначил его главой национализированной нефтяной промышленности. И он был тем самым человеком, который сразу же отправился на нефтепромыслы, везя с собой новые печати и деревянный шест с вывеской „Иранская национальная нефтяная компания“. За оппозицию шахскому режиму его несколько раз заключали в тюрьму. А теперь, несмотря на ненависть Хомейни к Мосаддыку, представитель либерального лагеря Базарган, учитывая поддерживавшие его политические силы, был кандидатом аятоллы Хомейни в лидеры нового Ирана. Так в течение короткого периода в Тегеране существовало два соперничавших правительства. Во вторую неделю февраля на военной авиабазе в пригороде Тегерана вспыхнула схватка между симпатизировавшими революции новобранцами и подразделением имперской гвардии. Коалиционное правительство лишилось военной поддержки, и Мехди Базарган был назначен премьер‑министром Временного революционного правительства. Сложившаяся ситуация кратко характеризовалась в телеграмме американского военного атташе в Вашингтон: „Армия сдается, Хомейни побеждает. Уничтожаем секретные документы“.
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ЗАПАДА ПОКИДАЕТ ИРАН
Однако „Поля“ покинули не все нефтяники. Человек двадцать были оставлены, чтобы создавать фикцию юридического присутствия „Оско“ на тот случай, если со стороны нового правительства вдруг возникнут какие‑то спорные вопросы. В числе этой группы находился и ирландский математик Джереми Гилберт, переквалифицировавшийся в инженера‑нефтяника. „Бритиш петролеум“ направила его в „Оско“, где он служил менеджером по планированию капиталовложений. Члены оставшейся группы пробыли в „Полях“ всего несколько дней, а затем в связи с осложнением ситуации тоже решили покинуть страну. Но Гилберт неожиданно попал в больницу с тяжелой формой гепатита, и в самолет, вывозивший всех остававшихся, его не допустили. Все бурные дни января он провел на больничной койке, находясь в тяжелейшем состоянии. По ночам до него доносились чтение молитв и стрельба, а в день отъезда шаха – восторженные крики гигантского торжества. Его единственным контактом с внешним миром, не считая радиопередач Би‑Би‑Си, был огромный букет цветов, оставленный уехавшими сотрудниками „Оско“ с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Ослабевшего и едва передвигавшего ноги по больничному коридору Гилберта иранский медперсонал принял за американца. Под его окном постоянно собиралась группа медсестер, выкрикивая „Смерть американцам!“ Один из пациентов, встретив Гилберта в коридоре, начал избивать его костылями, осыпая при этом американцев проклятиями. Еще одной проблемой было ирландское гражданство Гилберта. Единственный путь из Ирана лежал через Ирак, но поскольку между ирландскими войсками, выполнявшими миротворческую миссию в Ливане, и иракскими солдатами недавно возникла перестрелка, Гилберту отказали в иракской визе. Чтобы получить ее, ему пришлось буквально встать на колени перед сотрудником местного отделения иракского консульства и просить прощения за все грехи, совершенные когда‑либо ирландцами. В конце января он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы выехать из страны. На пыльном пограничном пункте иранские чиновники пропустили его, практически не удостоив и взглядом. Но иракские пограничники, заподозрив в нем шпиона, задержали его, обыскали и в течение нескольких часов допрашивали. Тем временем одинокое такси – единственная возможность добраться в Басру – уехало. Когда Гилберта наконец освободили, он спросил: „Как же я теперь доберусь в Басру?“ – „Пешком“, – ответил один из пограничников.
Другого выбора не было. Уставший и ослабевший, с двумя сумками в руках, он поплелся по пыльной дороге. Через пару часов его догнал ехавший в том же направлении какой‑то фургон. Водитель согласился подвезти его, но когда Гилберт достал иранские деньги, тот только громко расхохотался – это же просто бумажки. Гилберт отдал ему свои последние доллары, чтобы водитель отвез его в аэропорт Басры. Но теперь он остался без денег. Как он мог куда‑либо добраться? К счастью, он вспомнил, что недавно получил кредитную карточку „Аме‑рикан Экспресс“, которую, сунув в бумажник, еще не использовал. Благодаря небеса, что захватил ее с собой, он купил билет на рейс в Багдад. Поздно ночью он прибыл в столицу Ирака и после ряда неудачных попыток нашел гостиницу. Он позвонил своей семье. Они ужаснулись – они‑то думали, что он в прекрасных условиях лежит в больнице в Абадане.
В течение трех дней Гилберт не выходил из гостиницы. Когда он решил, что у него достаточно сил, чтобы выдержать еще один перелет, он вылетел из Багдада в Лондон. Прибыв поздно вечером в пятницу в аэропорт „Хитроу“, он позвонил в департамент кадров „Бритиш петролеум“, чтобы сообщить, что последний западный нефтяник из „Полей“, огромного иранского нефтяного комплекса, в конечном счете покинул страну. Но взявший трубку чиновник, увлеченный разговором с кем‑то о планах на уик‑энд, не расслышал, что звонит сам Гилберт. Он решил, что кто‑то просто хочет сообщить какие‑то новости о пропавшем инженере.“ А‑а, Джерри Гилберт, – сказал он, – мы не знаем, где он находится. Вам что‑нибудь известно о нем?“
Это было последней каплей. Стоя возле открытого телефона‑автомата в „Хитроу“ и собрав последние силы, Гилберт во всеуслышание злобно послал по определенному направлению не только злополучного чиновника из отдела кадров, но и всех, кто так или иначе имел отношение к мировой нефтяной промышленности.
ПАНИКА
Место старого, свергнутого режима в Иране занял новый, хотя и неуверенно: начиналась острая борьба за власть. А от Ирана, словно эпицентра землетрясения гигантской силы, по всему миру прокатилась сейсмическая волна, захватившая всех, не обойдя стороной никого и ничто. Когда два года спустя она, растратив силу, сошла на нет, уцелевшие, оглядевшись вокруг, обнаружили, что их вынесло в совершенно другое пространство. Все было иным: изменились все отношения и связи. Эта волна принесла и второй нефтяной шок, подняв цены с 13 до 34 долларов за баррель, и коренные перемены не только в мировой нефтяной промышленности, но и во второй раз в течение менее одного десятилетия в мировой экономике и геополитике. Новый нефтяной шок прошел через несколько стадий. Первая растянулась с конца декабря 1978 года, с прекращением импорта нефти из Ирана, до осени 1979 года. Потери после прекращения нефтедобычи в Иране были частично возмещены ее ростом в других странах. К концу 1978 года Саудовская Аравия повысила объем нефтедобычи от установленного ею самой потолка в 8,5 миллиона баррелей в день до 10,5 миллионов. В первом квартале 1979 года ее нефтедобыча сократилась до 10,1 миллиона баррелей, но все же это было выше прежнего потолка в 8,5 млн. Увеличили нефтедобычу и другие страны ОПЕК. В критические первые три месяца 1979 года суммарное производство нефти в капиталистическом мире было примерно на 2 миллиона баррелей в день меньше, чем в последнем квартале 1978 года.
Неудивительно, что возникла фактическая нехватка нефти, ведь Иран был вторым в мире крупнейшим экспортером. Однако при мировом спросе 50 миллионов баррелей в день, она составляла не более 4‑5 процентов. Почему же потеря поставок в 4‑5 процентов привела к повышению цен на 150 процентов? Причиной была паника, вызванная целым рядом обстоятельств. Во‑первых, произошел очевидный рост потребления нефти, что сразу же сказалось на рынке. Оживление спроса на нефть началось в 1976 году, а влияние энергосбережения и объема нефтедобычи в странах, не входивших в ОПЕК, было пока неясным, и убеждение, что спрос будет продолжать расти, стойко держалось.
Вторым фактором был разрыв контрактных соглашений внутри нефтяной промышленности, явившийся результатом революции в Иране. Несмотря на прежние серьезные потрясения интеграция в нефтяной промышленности сохранилась. Однако связи определялись уже не формальным видом собственности, а более свободно строились на основе долгосрочных контрактов. Иранские события ударили по нефтяным компаниям неравномерно – здесь сыграла роль степень зависимости от Ирана – и привели к срыву контрактного потока поставок. В результате на рынок бросились в огромном числе новые покупатели, стремившиеся восполнить недополученные баррели. Все они ни перед чем не останавливались, опасаясь быть захваченными врасплох. Это был реальный конец классической интеграции в нефтяной промышленности. Связи между вертикалью – разведкой и добычей – и горизонталью, то есть переработкой и сбытом, были наконец разрублены. Что ранее было периферией, рынком наличного товара, стало центром. И то, что считалось в определенной степени неблаговидной деятельностью, спекуляции, стало теперь главным занятием.
Третьим фактором была противоречивая и несогласованная политика стран‑потребителей. Международная программа обеспечения надежной системы энергоснабжения, выдвинутая Киссинджером на вашингтонской конференции по энергетике в 1974 году, находилась все еще в стадии становления, и многие ее аспекты пока не были проверены. Действия правительств, исходивших из своих внутренних соображений, рассматривались как главные шаги во внешней политике и увеличивали нажим и напряженность на мировом рынке. И если правительства и обещали предпринимать совместные действия для сдерживания роста цен, на аукционах нефтяные компании этих стран лихорадочно их набавляли.
В– четвертых, перемены дали экспортерам возможность получить дополнительные прибыли, причем чрезвычайно высокие, и снова утвердить свою властьи влияние на мировой арене. Большинство экспортеров, хотя и не все, при любой возможности продолжали взвинчивать цены, а некоторые манипулировали нерегулярностью поставок, создавая еще больший ажиотаж на рынке и получая дополнительные доходы.
И, наконец, просто сказывалась сила и власть эмоций. Неопределенность, беспокойство, смятение, страх, пессимизм – все эти настроения определяли действия и управляли ими во время паники. Впоследствии, когда были просчитаны все итоги, проведен анализ спроса и предложения, выявилась вся иррациональность этих эмоций: для них не было основания. Впрочем, в то время основания представлялись реальными. И если казалось, что вся мировая нефтяная система распалась, она все же не вышла из‑под контроля. И что значительно подстегивало эмоции, так это убеждение, что обещанное сбылось. Нефтяной кризис, ожидавшийся в середине восьмидесятых, наступил в 1979 году – вторая фаза потрясений, возникших в 1973 – 1974 годах. Что это был не временный срыв, а ранний приход более глубокого нефтяного кризиса, который означал перманентно высокие цены. И кроме того, не было ответа на вопрос о том, как далеко распространится влияние иранской революции. В свое время волны Французской революции прокатились через всю Европу вплоть до самых ворот Москвы прежде, чем они растеряли свою силу. Затронет ли волна иранской революции близлежащий Кувейт, дойдет ли до Эр‑Рияда, Каира, а, может быть, распространится и дальше? Религиозный фундаментализм, помноженный на бешеный национализм, захватил западный мир врасплох. Хотя все это было еще необъяснимо и непостижимо, одна из движущих сил была очевидна: неприятие Запада и всего современного мира. Осознание этого порождало ледяной всепроницающий страх.
Покупатели, ошеломленные развертывавшейся картиной и опасавшиеся повторения 1973 года, неумышленно усугубили нехватку, панически создавая запасы – точно так же, как они делали в 1973 году. Мировая нефтяная промышленность на любой день располагает запасами в миллиарды баррелей нефти, находящимися в хранилищах. В обычных условиях они необходимы для бесперебойной работы той капиталоемкой „машины“, которая обслуживает всю цепочку, начиная от нефтеносного месторождения и до бензоколонки. Для прохождения всего пути – от скважины в Персидском заливе, через системы очистки, переработки, сбыта и до поступления в подземные ёмкости на бензоколонке – одному баррелю нефти требуется девяносто дней. Задержка на каком‑либо одном этапе в этой цепи сама по себе обходилась дорого и могла также вывести из строя другие звенья системы. Так что запасы были главным фактором в постоянном обеспечении спроса и в гладком функционировании системы. Но помимо этого главного запаса, промышленность поддерживала резервный запас, как бы на „черный день“. На случай неожиданных изменений в поставках или спросе: скажем, неожиданного роста потребления нефти из‑за волны холода в январе или двухнедельной задержки прибытия танкера из‑за бури, выведшей из строя погрузочные механизмы в Персидском заливе. В таких случаях недостающий объем пополнялся за счет этих резервных запасов.
Конечно, хранение запасов обходилось дорого. Надо было покупать нефть, поддерживать техническое состояние хранилищ, к тому же выводились из оборота денежные средства. Так что компании не были заинтересованы в накопле нии большего объема запасов, чем они считали необходимым, исходя из своего обычного опыта. Если же, по их мнению, из‑за вялости спроса наблюдалась тенденция к снижению цен, они по возможности быстрее сокращали запасы, рассчитывая пополнить их позднее, когда цены будут еще ниже. Именно так нефтяная промышленность поступала в течение почти всего 1978 года при падении цен на рынке. И, в противоположность этому, если компании считали, что цены повысятся, они покупали больше по сегодняшним, пока еще низким, ценам с тем, чтобы завтра им приходилось покупать меньше по более высоким. Так теперь и происходило – с исключительной силой и неистовством во время паники в 1979 и в 1980 годах. По сути дела, компании закупали намного больше сверх ожидавшегося спроса не только из‑за разницы в ценах, но и потому, что они не были уверены, что им удастся получить нефть позднее. И эти лишние закупки, выходившие за рамки реального потребления, в сочетании с накоплением запасов головокружительно вздували цены, то есть происходило именно то, чего компании и потребители стремились избежать в первую очередь. Короче говоря, в панике 1979 – 1980 годов присутствовало само себя исполнявшее пророчество гигантского масштаба. Впрочем, в панических закупках нефтяные компании были не одиноки. В сфере переработки и сбыта промышленники и коммунальные службы также бешено накапливали запасы, страхуя себя от повышения цен и возможной нехватки. Так же поступали и владельцы автомашин. До 1979 года типичный автомобилист западного мира ездил при баке, заполненном лишь на одну четверть. Внезапно обеспокоенный нехваткой бензина, он также стал накапливать запасы, другими словами, его бензобак был теперь наполнен на три четверти. И внезапно, чуть ли не за ночь, из подземных емкостей автозаправочных станций было выбрано напуганными американскими автомобилистами свыше миллиарда галлонов топлива.
Лихорадочная погоня нефтяных компаний за созданием запасов, усиленная потребителями, привела к тому, что „спрос“ сверх фактического потребления возрос дополнительно на 3 миллиона баррелей в день. А при утрате поставок в размере 2 миллиона баррелей в день общая нехватка составила уже 5 миллионов, что было эквивалентно примерно 10 процентам потребления. Итак, вызванные паникой закупки для создания запасов более, чем вдвое увеличили фактическую нехватку и еще больше подстегнули панику. Таков был механизм повышения цен с 13 до 34 долларов за баррель.
ФОРС‑МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Панику можно было бы сдержать, если бы дефицит распространился на всех поровну. Но этого не произошло. „Бритиш петролеум“ в силу исторически сложившихся обстоятельств зависела от Ирана гораздо в большей степени, чем любая другая компания. По меньшей мере 40 процентов ее поставок шли из Ирана и таким образом их прекращение ударило по ней больше всех. На нефтяном жаргоне, „Бритиш петролеум“ „захлебывалась сырой нефтью“, то есть ее поставки намного превышали потребности ее нефтеперерабатывающей и маркетинговой систем. Таким образом, она была „оптовым продавцом“, продавая значительную часть своей нефти по долгосрочным контрактам „третьим сторонам“ – либо другим монополиям, как. например, „Экссон“, либо независимым переработчикам, в частности, японским. Но теперь, потеряв иранские поставки, „Бритиш петролеум“ прибегла к форс‑мажорным оговоркам (стихийное бедствие) в своих контрактах и сократила продажи своим покупателям. Она полностью отменила контрактные поставки „Экссон“ и в то же время пыталась закупить нефть где‑либо еще. Ни „Бритиш петролеум“, ни „Шелл“ не входили в „Арамко“, так что у них не было прямого доступа к возросшей Саудовской нефтедобыче, которая шла четырем входившим в „Арамко“ американским компаниям.
Итак, костяшки домино начали падать. Другие компании, оставшись без нефти либо непосредственно из‑за прекращения иранской нефтедобычи, либо косвенно из‑за сокращения поставок „Бритиш петролеум“, в связи с форс‑мажорной ситуацией также сократили поставки потребителям или вообще аннулировали контракты. В марте, в преддверии возобновления с 1 апреля контрактов с японскими покупателями „Экссон“ сообщила, что по мере истечения сроков значительная часть контрактов с третьими сторонами не будет возобновлена. Еще с 1974 года „Экссон“ предупреждала своих покупателей, что им следует искать поставки нефти в других местах и „не рассчитывать на „Экссон“. Выражаясь словами президента „Экссон“ Клифтона Гарвина, „зловещие тучи уже сгустились. У нас отняли Венесуэлу. У нас больше нет концессии в Саудовской Аравии. И нет больше перспектив играть роль посредника между саудовцами и японскими потребителями. Решение „Экссон“ не было прихотью – просто в мире шли перемены“. Так что „Экссон“ уже приступила к аннулированию контрактов с третьими сторонами. Но в контексте кризисного настроения ее заявление в марте 1979 года приобрело неожиданное значение.
Цепная реакция падения костяшек домино тяжело ударила по Японии. После первого нефтяного кризиса Япония настойчиво пыталась создать нишу в Иране, и это ей удалось. В результате она оказалась относительно более, чем другие индустриальные страны, зависимой от Ирана, который к 1978 году обеспечивал почти 20 процентов ее общей потребности в нефти. Теперь же Япония явно не могла больше рассчитывать на монополии, а ее переработчики отнюдь не собирались допускать, чтобы их предприятия простаивали из‑за отсутствия нефти. Правительство снова оказалось лицом к лицу с очевидным отсутствием в Японии своих природных ресурсов; японскому экономическому чуду грозил удар в самое сердце – в основе его промышленной базы лежала нефть. В Японии паника ощущалась неизмеримо острее, чем в других странах – ведь результаты двадцатилетнего, тяжелым трудом достигнутого экономического роста готовы были вот‑вот превратиться в прах. В качестве одной из мер энергосбережения правительство приказало уменьшить мощность ярко горевших фонарей на Гинзе. Но, конечно, более важным было указание о прямом выходе японских покупателей на мировые рынки, чего они ранее практически не делали. Эту инициативу подхватили суровые японские торговые компании, рыская по миру в поисках поставок. Установление деловых контактов на местах, в чем прежде не было необходимости, нередко требовало от них значительной изобретательности и ловкости. Так, сотрудники одного торгового дома убедились на опыте, что прекрасный способ добиться приема у нужных министерских чиновников и служащих нефтяных компаний – это дарить их секретаршам перчатки. А чтобы наладить отношения с министром нефти Ирака, этот же торговый дом обеспечил ему услуги специалиста мирового класса по иглоукалыванию.
К отчаянным попыткам японцев получить нефть присоединились независимые переработчики многих стран и уже утвердившиеся компании. Так поступили и государственные нефтяные компании, например, в Индии. Внезапно там, где прежде число покупателей было относительно невелико, теперь их стало множество – крайне желательная ситуация с точки зрения продавцов, пока еще немногочисленных. И внезапно вся активность переместилась на рынки наличного товара, которые до этого были своего рода побочной ветвью и доля которых в поставках сырой нефти и нефтепродуктов составляла не более 8 процентов общих поставок. Прежде это был механизм взаимоприспособления спроса и предложения, место, куда покупатели направлялись за дисконтной нефтью, как, например, излишними закупками нефтеперерабатывающих заводов вместо более дорогих поставок, гарантированных контрактами. Но это был маргинальный рынок, и как только на нем появились покупатели, предлагаемые ими цены неуклонно пошли вверх. К концу февраля 1979 года цены на рынке наличного товара в два раза превышали официальные цены. Этот рынок назвали „Роттердамским“ по названию огромного нефтяного порта в Европе, но фактически это был рынок глобального масштаба, связанный с миром сетью лихорадочно работавших телефонов и телексов.
СХВАТКА И ПОГОНЯ
Здесь открывалась идеальная возможность для экспортеров, и они не замедлили ею воспользоваться. Во‑первых, руководствуясь новыми, непрерывно поступавшими с телексов всего мира ежемесячными повышениями, они начали устанавливать надбавки к своей официальной цене. Во‑вторых, они приступили к переводу поставок с долгосрочных контрактов на гораздо более выгодные рынки наличного товара. „Я не такой идиот, чтобы отказываться от 10 лишних долларов за баррель на рынке наличного товара, – сказал в частном разговоре министр нефти одной из стран ОПЕК, – когда я знаю, что, если по этой цене не продадим мы, то продаст кто‑то еще“. К тому же экспортеры настаивали, чтобы покупатели наряду с поставками по контрактам брали нефть и по более высоким ценам на свободном рынке. А затем, пользуясь оговорками, предусмотренными на случай форс‑мажорных, они полностью аннулировали контракты. Так, однажды утром „Шелл“ получила от страны‑экспортера телекс, сообщавший, что в связи с форс‑мажорной ситуацией поставки по контракту далее невозможны. А днем того же дня от той же страны в „Шелл“ поступил еще один телекс – на этот раз предлагавший поставить нефть на основе цен так называемого свободного рынка. Чудесным образом предлагавшийся объем и тот, в продаже которого несколько часов назад было отказано, полностью совпадали. В чем же была разница? Конечно, в цене – она была на 50 процентов выше. Обстоятельства были таковы, что „Шелл“ приняла предложение.
Все же в начале марта 1979 года, гораздо скорее, чем ожидалось, на мировые рынки начал возвращаться иранский экспорт, хотя и в значительно меньшем объеме, чем до падения шаха. С очевидным ослаблением напряженности с поставками, цены на рынке наличного товара начали падать и приближаться к официальным продажным ценам. Это был период, когда мог бы быть восстановлен определенный порядок, обеспечивавший некоторое спокойствие. В начале марта страны‑члены Международного энергетического агентства приняли в целях стабилизации рынка решение сократить спрос на 5 процентов. Но паника и лихорадочная конкуренция на рынке теперь уже набрали инерцию. Кто мог быть уверен, что снова появившаяся иранская нефть будет поступать регулярно? Хотя Хомейни и установил контроль над нефтяной промышленностью, „Поля“ – насколько было известно за пределами Ирана – контролировались радикальной левацкой группой, „комитетом 60‑ти“, состоявшим главным образом из воинственно настроенных „белых воротничков“. Он был как бы правительством в правительстве и по своему усмотрению сажал в тюрьмы административных служащих и других чиновников. Более того, зловещим предзнаменованием было и то, что другие страны ОПЕК уже начали объявлять о сокращении нефтедобычи. При постоянно растущих ценах было гораздо выгоднее сохранить нефть в недрах и продать ее в будущем.
В конце марта состоялась очередная конференция ОПЕК. Цены на наличную сырую нефть уже поднялись на 30 процентов, на нефтепродукты – на 60 процентов. ОПЕК решила, что ее члены могут повышать официальные цены за счет дополнительных налогов и надбавок, „какие они считают оправданными в свете их собственного положения“. В реальности это означало, как открыто признал Ямани, „свободу для всех“. Экспортеры отбросили все понятия о структуре официальной цены и назначали цены по принципу „сколько выдержит рынок“. И теперь на мировом рынке нефти начались два вида игр. Одним была погоня друг за другом: производители состязались в повышении цен. Другим – „схватка“, жестокая конкуренция покупателей за поставки. Покупатели – лишенные нефти компании, нефтепереработчики, правительства, новое поколение и, конечно, монополии – топтали друг друга, стремясь завоевать расположение экспортеров. Ничто в этой лихорадочной, наставлявшей синяки борьбе не принесло каких‑либо новых поставок; все, что она дала – это лишь усиление конкуренции за наличные объемы и повышение цен. „Никто и ничего не контролировал, – сказал координатор по поставкам в „Шелл“. – За поставки просто дрались. На каждом уровне считали, что покупать необходимо сейчас; какова бы ни была цена, она была приемлемой по сравнению с той, какой она будет завтра. Приходилось говорить „да“, в противном случае грозил проигрыш. Такова была психология покупателя. Как ни ужасающи, с нашей точки зрения, были условия сегодня, завтра они становились хуже“.
В явной оппозиции к введению налогов, надбавок и других форм быстрого роста цен находился лишь один экспортер – это была Саудовская Аравия. Выступая против дальнейшего повышения цен еще с 1973 года, когда цены возросли в четыре раза, она и теперь была против этого, опасаясь, что за краткосрочными победами, как бы велики они ни были, последуют серьезные и, возможно, гибельные для экспортеров потери. Завышенные цены отпугнут покупателей, и ближневосточные производители снова утратят свое значение – в целях надежности энергоснабжения промышленные страны откажутся от их услуг. Их роль в индустриальном мире и их политическое влияние пойдут на убыль.
Cаудовцы выступили с заявлением, получившим известность как „эдикт Ямани“, в котором указывалось, что Саудовская Аравия будет придерживаться официальных цен, не вводя каких‑либо добавок и налогов. Кроме того, Саудовская Аравия настаивала, что именно по этим официальным ценам четыре компании „Арамко“ должны продавать нефть и своим дочерним предприятиям, и третьим сторонам. И если она установит, что к ее ценам делаются надбавки, возмездие будет неминуемым – вплоть до лишения доступа к саудовской нефти, и это было как раз в то время, когда каждая компания болезненно переживала острую нехватку в поставках. Саудовская Аравия была буквально единственной из всех экспортеров страной, занимавшей такую позицию и на мартовской конференции, и на протяжении всех последующих месяцев. Из всех стран ОПЕК ее единственным союзником были Объединенные Арабские Эмираты, и со стороны западных стран оказывалось сильнейшее закулисное давление вплоть до прямых просьб. Один за другим из Вашингтона – а также Бонна, Парижа и Токио – в Эр‑Рияд прибывали чиновники высшего ранга просить у саудовцев содействия в установлении умеренных цен и приветствовать каждый шаг, который предпринимала Саудовская Аравия в этом направлении.
Все же во втором квартале 1979 года саудовцы сократили нефтедобычу, возвратив ее к докризисному „потолку“ в 8,5 миллиона баррелей в день. Несмотря на настойчивость саудовцев в вопросе официальных цен, это сокращение способствовало скачку цен на рынках наличного товара. Причины сокращения выдвигались самые разные. Был ли это добрососедский сигнал саудовцев новому исламскому правительству аятоллы Хомейни, что они обеспечивают возобновлявшейся иранской нефтедобыче место на рынке и избегают таким образом региональной конфронтации? Или же это было проявлением недовольства подписанием 26 марта Кэмп‑Дэвидских мирных соглашений между Израилем и Египтом? А может быть, саудовцы исходили из своего собственного финансового положения? Среди саудовцев шли дебаты относительно сохранения нефтяных ресурсов и „объема нефтедобычи, превышавшей фактические потребности в доходе“, особенно в такое время, когда по их собственным наблюдениям американский импорт нефти даже увеличивался. А может быть, саудовцы, видя возвращение на рынок иранских поставок, просто считали, что кризис ослабевает и вскоре закончится? Какова бы ни была причина, действительность была такова, что только Саудовская Аравия располагала такими резервными мощностями – как когда‑то были у Соединенных Штатов – которые могли, если пустить их в ход, ослабить панику. Так, даже восхваляя стремление саудовцев к умеренности в ценах, западные эмиссары одновременно настойчиво просили их снова поднять объем нефтедобычи и увеличить поставки, чтобы заглушить панику.
„НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ОПАСНОСТИ“
Ранним утром 28 марта 1979 года произошло одно из неприятных совпадений, какие часто подбрасывает история, – прошло всего несколько часов, как закончилась конференция стран ОПЕК, когда на атомной электростанции, расположенной на островке Три‑Майл‑Айленд близ города Харрисберга в штате Пенсильвания отказал насос, а затем клапан. Сотни тысяч галлонов радиоактивной воды хлынули в здание, где находился реактор. Прошли близкие к страшной панике дни прежде, чем размер аварии был определен. Некоторые утверждали, что это была не „катастрофа“, а всего лишь небольшой „инцидент“. Но как бы эту аварию ни назвать, на АЭС произошло непредвиденное и якобы невозможное: в системе обеспечения безопасности обнаружились какие‑то серьезные просчеты. Авария на Три‑Майл‑Айленд поставила под серьезное сомнение будущее атомной энергетики. Она также угрожала распространенному в западном мире утверждению, что атомная энергетика является одним из главных направлений, вызванных к жизни нефтяным кризисом 1973 года. Означала ли катастрофа на Три‑Майл‑Аи‑ленд, внеся ограничения в развитие атомного варианта энергетики, что индустриальный мир окажется более зависимым от нефти, чем ожидалось ранее? В целом авария усилила мрак, пессимизм и даже фатализм, который теперь овладел западным миром. „Ситуация, которую мы ожидали примерно в середине восьмидесятых, когда за нефть пойдет настоящая драка, уже наступила“, – сказал комиссар по вопросам энергетики в Европейском сообществе. „Все варианты выхода затруднительны, и большинство их очень дороги, – заявил британский министр энергетики Дэвид Хауэлл. – Друзья мои, наш образ жизни в опасности“.
Усилия западных правительств сократить спрос и ослабить раскручивание спирали цен оказывались недостаточными. Тем не менее, правительства не хотели обратиться к пересмотренной Международным энергетическим агентством системе равномерного распределения нефти в случае чрезвычайного положения, опасаясь, что это усилит негибкость рынка. И во всяком случае было неясно, достигнуто ли то официальное условие – нехватка нефти в семь процентов – когда она может вступить в действие. Правительства разрывались между двумя главными задачами: получения нефти по относительно низкой цене и гарантированных надежных поставок, цена которых могла быть любой. Когда‑то им удавалось и то, и другое. Но теперь они видели, что эти две цели противоречат друг другу. Они выступали в пользу первой, но когда начала давать себя знать напряженность внутриполитической обстановки, перешли ко второй.
Главным приоритетом было снабжение отечественных потребителей, которые к тому же были и избирателями. Вопросы энергетики стали, как пояснил один европейский министр энергетики, „самыми неотложными политическими вопросами“. И западные правительства встали на путь агрессивной погони за нефтью, действуя либо косвенно, через компании, либо непосредственно, заключая соглашения на уровне двух стран. Результатом были подозрения, обвинения, указывание пальцем и возмущение среди этих, предположительно, союзных стран. Страны‑потребители так же, как и нефтяные компании, теперь считали, что каждый стоит сам за себя. А цены тем временем продолжали расти. Для американцев возвращение очередей за бензином длиной в несколько кварталов от бензоколонки стало олицетворением паники. Кошмар 1973 года вернулся. Из‑за прекращения иранских поставок нехватка бензина действительно существовала. Нефтеперерабатывающие заводы, рассчитанные на переработку легкой иранской нефти и аналогичных сортов, не могли дать нужный объем ни бензина, ни других более легких нефтепродуктов из сырой нефти тяжелых сортов, к которым они теперь были вынуждены обратиться. В Калифорнии запасы бензина были незначительны, и после сообщений и слухов о нехватке, казалось, все 12 миллионов автомобилей штата вдруг появились одновременно у бензоколонок, чтобы заполнить свой бак бензином. Общенациональная система чрезвычайных мер регулирования только ухудшила положение. Некоторые штаты, стремясь избежать ликвидации запасов, запретили продажу бензина на сумму выше 5 долларов. Результаты были прямо противоположны поставленной цели, поскольку водителям приходилось только чаще возвращаться на бензоколонки. Тем временем регулирование цен сдерживало энергосбережение: действительно, если бы цены на бензин были отпущены, очереди за ним исчезли бы гораздо быстрее. В то же время введенная федеральным правительством система распределения не отличалась гибкостью, производя распределение на основе исторически сложившихся особенностей развития штатов, и лишала возможности переадресовывать запасы в зависимости от спроса. Поэтому в крупных городах бензина не хватало, а в сельских и курортных районах его был переизбыток – там не хватало только отдыхающих и туристов. В целом по стране в результате политической негибкости механизмом распределения оказались очереди на бензоколонках. И еще более обостряла положение способность самих очередей порождать еще большие очереди. Стоя в очереди на заправку, средний автомобиль расходовал 0,7 галлона в час. Согласно предварительному подсчету, весной и летом 1979 года, стоя в очередях, американские водители растрачивали попусту 150000 баррелей нефти в сутки!
Очереди за бензином охватили всю страну, и нефтяные компании снова стали общим врагом номер один. Обвинения, не заставляя себя ждать, следовали одно за другим: компании придерживают нефть, танкеры задерживаются у берегов с целью повышения цен, промышленность намеренно накапливает запасы и создает нехватку нефти, рассчитывая повысить цены. Президент „Экссон“ Клифтон Гарвин решил выступить публично и попытаться опровергнуть обвинения. Это был спокойный и осмотрительный человек, предпочитавший все тщательно взвешивать. Инженер‑химик по образованию, он знал на опыте работу всех участков нефтяного бизнеса. Как и его отец, он был большим любителем наблюдения за птицами, хобби, из‑за которого его нередко поддразнивало начальство. (Позднее он был членом правления Национального общества Одюбона – общественной организации, выступающей за охрану окружающей среды, в первую очередь животного мира.) Теперь он обратился к средствам массовой информации, дал интервью по телевидению и принял участие в шоу популярного телеведущего Фила Донахью, будучи, безусловно, первым из выступивших на телевидении людей такого калибра из мира нефтяной промышленности. Однако создавалось впечатление, что как только Гарвин заговаривал о поставках нефти и сложной системе работы нефтяной отрасли, ведущие программ, отводя взгляд в сторону, намеренно прерывали его и поспешно меняли тему.
Гарвин, безусловно, хорошо понимал настроение общественного мнения. „Американец – странный человек, – вспоминал он позднее. – Он поклоняется итогам того, что создает огромные предприятия, масштабные экономики, массовое производство. Но он ненавидит все, что велико и могуче, а нефтяная промышленность рассматривается как самая большая и самая сильная отрасль“. Это была обезличенная ненависть, но Гарвин не хотел подвергать себя риску. Однажды он сидел в машине в хвосте очереди к местной колонке „Экссон“ на Пост‑роуд в центре Гринуича в штате Коннектикут. Дилер, узнав президента „Экссон“, подошел к нему и предложил подъехать с задней стороны колонки, чтобы оказаться впереди. „А что вы скажете тем, кто стоит в очереди?“ – „Ну, я скажу им, кто вы“, – услужливо ответил дилер. „В таком случае, я останусь там, где я стою, – твердо ответил Гарвин“.
НЕФТЬ И АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Начало конца президентства Джимми Картера было отмечено очередями за бензином. Он был еще одной жертвой иранской революции и потрясений на рынке нефти. Картер пришел в Вашингтон два года назад, в 1977 году, его парадоксальные взгляды отражали две стороны его жизненного опыта: морского офицера, ставшего фермером, выращивавшим арахис, и утвердившегося в вере христианина. Он был проповедником, искавшим морального очищения пост‑уотергейтовс‑кой Америки с помощью бесхитростных и приземленных методов своего президентства. Он был также инженером, пытавшимся не только управлять всеми мельчайшими движениями сложной политической машины, но и продемонстрировать свою власть и над серьезными проблемами, и над мелкими деталями.
Картер, казалось бы, идеально подходил к роли лидера во время паники 1979 года; его программа и интересы как проповедника и инженера сходились на энергетике и нефти, делая их центром внутренней политики его администрации. И вот теперь он оказался перед лицом кризиса, о котором заранее предупреждал. Но ни награды, ни уважения для пророка не было, только одни обвинения. К середине марта 1979 года, через два месяца после начала кризиса, главный советник по энергетике в аппарате Белого дома Элиот Катлер предупреждал Картера о „дротиках и стрелах, летящих в нас со всех сторон – от тех, кто хочет отмены регулирования, кто встревожен растущей инфляцией, кто хочет принятия привлекательной и положительной программы, кто не хочет, чтобы нефтяные компании наживались. И вообще от всех тех, кто хочет устроить нам невыносимую жизнь в политическом плане“. Вскоре произошла авария на Три‑Майл‑Айланд, и встревоженная страна созерцала фотографии инженера‑ядерщика Джимми Картера, проходящего по зданию АЭС в специальных желтых сапожках и лично инспектировавшего аппаратную вышедшей из строя атомной электростанции.
В апреле Картер выступил с обращением к стране по вопросам энергетической политики, что только усилило шквал вопросов и нападок. Он объявил о снятии государственного контроля над ценами, что, несомненно, привело в ярость либералов, которые были склонны почти во всем плохом обвинять нефтяные компании. И совместил отмену контроля над ценами со введением „налога на непредвиденную прибыль“, на „чрезмерные“ доходы нефтяных компаний, что вызвало ничуть не меньшую ярость консерваторов, которые причиной паники считали вмешательство правительства, контроль над ценами и излишнюю жесткость регулирования.
Специальная президентская группа по энергетике неоднократно проводила секретные совещания, пытаясь как‑то решить проблему нехватки бензина. Единственным способом быстро ликвидировать последствия срыва поставок и покончить с очередями за бензином, пока они не покончили с президентством Картера, было – заставить саудовцев снова увеличить нефтедобычу. В июне американский посол в Эр‑Рияде вручил саудовцам официальное послание президента Картера, а также написанное им от руки письмо, носившее более личный характер. И в том, и в другом саудовцев умоляли увеличить нефтедобычу. Посол также беседовал в течение нескольких часов с принцем Фахдом, главой Верховного совета по нефти, стараясь получить обещание о повышении нефтедобычи и о сохранении цен на прежнем уровне. В том же месяце Картер отправился в Вену для завершения переговоров об ограничении стратегических вооружений – ОСВ‑2 – с Генеральным секретарем Коммунистической партии СССР Леонидом Брежневым. Подписание договора по ОСВ‑2, переговоры по которому велись на протяжении семи лет, при трех администрациях, могло бы быть отмечено как заметное достижение. Но не в то время. Оно просто сбрасывалось со счетов. Единственное, что тогда имело значение, – это очереди за бензином. И виноват в них был Картер.
„НАИХУДШИЕ ВРЕМЕНА“
Теперь нехватка бензина ощущалась практически по всей стране. Американская автомобильная ассоциация, проверившая 6286 бензоколонок, обнаружила, что в субботу 23 июня 58 процентов из них были закрыты, и 70 процентов были закрыты в воскресенье 24 июня, оставив американцев с очень небольшим запасом бензина в первый летний уик‑энд. По всей стране шли бурные забастовки водителей независимых автотранспортных компаний, протестовавших против нехватки горюче‑смазочных материалов и растущих цен. Около сотни водителей грузовиков, перекрыв в часы пик скоростную автостраду на Лонг‑Айленде, создали дорожную пробку длиной в 30 миль, приведя в ярость десятки тысяч автомобилистов. Растущие цены на бензин были не единственной проблемой. Шел также беспрецедентный рост инфляции.
Как это происходило и ранее во времена близкие к панике из‑за нехватки нефти, в Вашингтоне росли выступления за принятие широкой программы по созданию синтетических энергоносителей, которая должна была сократить зависимость американцев от иностранной нефти. С точки зрения многих, авария на Три‑Майл‑Айленд закрывала путь к атомной энергетике. Альтернативой казалась программа производства нескольких миллионов баррелей синтетического горючего в день, главным образом нефтеподобных жидкостей и газов. В качестве главных методов предлагались гидрирование угля – процесс, схожий с тем, который немцы применяли во время Второй мировой войны, а также пульверизация и нагрев горючих сланцев в Скалистых горах до 900 градусов по Фаренгейту. Такая программа, конечно, требовала огромных расходов, как минимум в десятки миллиардов долларов, на ее осуществление ушли бы годы и с нею были связаны главные вопросы охраны окружающей среды – причем было совсем не бесспорно, что она будет работать, по крайней мере в том масштабе, который предполагался. Однако в политическом плане эта концепция представлялась все более заманчивой.
Однако несмотря на рост требований принять эту программу, усиливавший давление на увязшую в проблемах администрацию, Картер отбыл в очередную заграничную поездку, на этот раз в Токио на саммит лидеров главных стран западного мира по экономике. Опасаясь влияния нехватки нефти на общее состояние мировой экономики, семерка лидеров обсуждала в Токио исключительно вопросы энергетики. К тому же в крайне неприятной атмосфере. Темпераменты лидеров ничто не сдерживало – назревала драка. „Сегодня первый день экономического саммита, и один из самых неприятных дней на моем дипломатическом поприще“, – записал Картер в своем дневнике. Дискуссия становилась всеболее резкой и ожесточенной. Даже обстановка во время ленча, отмечал Картер, „была крайне напряженной и неприятной“. Немецкий канцлер Гельмут Шмидт „по отношению ко мне вел себя оскорбительно…Он утверждал, что причиной всех мировых проблем с нефтью было именно американское вмешательство в деле подготовки мирного договора о Ближнем Востоке“. Что касается британского премьер‑министра Маргарет Тэтчер, то он записал, что это „несговорчивая и тяжелая в общении дама, исключительно самоуверенная, упрямая и не способная признать, что она чего‑то не знает“.
Следующей остановкой в поездке Картера предполагались Гавайи, где он собирался отдохнуть. Однако главный советник Картера по внутриполитическим вопросам Стюарт Эйзенштат опасался, что отдых президента в данное время может обернуться серьезной политической катастрофой. Он считал, что группа сотрудников во главе с президентом, путешествуя уже большую часть месяца за границей, не отдает себе отчета во всей серьезности настроений в стране. Сам Эйзенштат однажды утром по пути на работу в Белый дом простоял 45 минут в очереди, чтобы заправиться на близлежащей колонке „Амоко“ на Коннектикут авеню, и его охватило почти такое же бесконтрольное чувство ярости, которое испытывали его соотечественники во всех концах страны. И мишенью этой общенациональной ярости были не только злополучные хозяева бензоколонок и нефтяные компании, но и сама администрация. „Это был период беспросветного мрака и уныния, – позднее говорил Эйзенштат. – Все вопросы инфляции и энергетики сплелись в одно целое. Со всех сторон нависало ощущение безысходности и невозможности выбраться из всех этих проблем“. Президенту, поглощенному иностранными делами, следовало бы знать, что происходит у него дома.
Итак, в последний день токийского саммита Эйзенштат отправил президенту памятную записку, рисующую в мрачных тонах ситуацию с нехваткой бензина: „Ничто не вызывало ранее такой растерянности, недовольства и возмущения американцев, – писал он, – и даже резких выпадов в ваш адрес. Во многих отношениях мы переживаем, по‑видимому, наихудшие времена. Но я твердо уверен, что мы справимся и сумеем обратить их в период открывающихся возможностей“. Измученный Картер отменил поездку на Гавайи и, вернувшись из Токио, обнаружил, что его рейтинг упал до 25 процентов, что соответствовало лишь рейтингу Никсона в последние дни перед отставкой. Он удалился в горный район Мэриленда, в Кэмп‑Дэвид, где, вооружившись 107‑страничным анализом настроений американцев, который подготовил его любимый интервьюер, проводящий опросы общественного мнения, Патрик Кадделл, предполагал поразмыслить о будущем страны. Он также встретился с лидерами различных общественных течений и погрузился в чтение новой книги, в которой считалось, что в основе всех проблем Америки лежит ее „нарциссизм“.
В июле саудовцы подняли нефтедобычу с 8,5 до 9,5 миллионов баррелей в день, приняв во внимание просьбы Соединенных Штатов, а также свои собственные интересы обеспечения безопасности. Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии должно было сократить нехватку в течение нескольких следующих месяцев, но решение саудовцев не было долгосрочным, и как показывали события предшествовавших нескольких месяцев, на нем не могло строиться все благополучие Америки и стран Западного мира. Не могли дополнительные поставки и немедленно остудить бурные проявления американского общественного мнения.
Картер был вынужден что‑то предпринять и, главное, чтобы общественность видела, что он предпринимает что‑то масштабное, что‑то позитивное, такое, что обещает долгосрочное решение. Он стал поддерживать концепцию широкого плана по созданию синтетических энергоносителей, которая основывалась главным образом на программе в 100 миллиардов долларов, выдвинутой Нельсоном Рокфеллером в 1975 году. Это должна была быть так необходимая стране „привлекательная и конструктивная программа“, и его аппарат лихорадочно работал над конкретными предложениями. Однако раздавались и голоса, выражавшие сомнение в целесообразности такой программы. „Нью‑Йорк Тайме“ от 12 июля сообщила, что, согласно данным нового исследования, проведенного в Гарвардской школе бизнеса, более дешевым и быстрым путем сокращения американского импорта нефти является не создание синтетического топлива, а принятие программы энергосбережения. Другие источники предупреждали, что программа создания синтетического топлива окажет колоссальное отрицательное воздействие на окружающую среду. Но в июле в своем обращении к растерянной и возмущенной нации, в котором он говорил о „кризисе доверия“ в Америке, Картер все же объявил о своем плане получать в 1990 году 2,5 миллиона баррелей в день синтетического топлива, главным образом из угля и горючих сланцев. Первоначально он хотел назвать цифру в 5 миллионов баррелей в день, но его убедили этого не делать. Впрочем, его обращение, хотя в нем и не были произнесены эти слова, приобрело известность как свидетельство „болезненной нерешительности“ Картера.
Картер был также намерен произвести изменения в составе своего кабинета, в частности, заставить подать в отставку двух человек – министра финансов Майкла Блюменталя и министра здравоохранения Джозефа Калифано. Его политические советники Гамильтон Джордан и Джоди Пауэлл убедили его, что оба министра проявляют нелояльность к администрации. Стюарт Эйзенштат убеждал президента в обратном – он ежедневно работает с ними, и они, безусловно, преданные администрации люди. Эйзенштат проявил большую, чем когда‑либо, настойчивость и, казалось, убедил президента не увольнять ни Калифано, пользовавшегося сильной политической поддержкой, ни Блюменталя, который был в администрации главным борцом с инфляцией. Но Картер стоял на своем – они должны уйти. Но как это сделать? Перед началом одного из заседаний кабинета Картер объявил нескольким главным сотрудникам своего аппарата, что он принял решение предложить всем членам кабинета подать прошения об отставке, а затем он оставит только тех, кто все еще был ему нужен. Сотрудники аппарата усиленно пытались отговорить его. Такой ход может породить панику. Нет, настаивал президент, это будет расценено уставшим от кризиса обществом позитивно, как поворот к новой, долгожданной странице в жизни.
Сразу после этого разговора Картер отправился на заседание министров. Настроение собравшихся было мрачным – всех тревожила ситуация, в которой оказалась администрация. Как было договорено заранее, государственный секретарь Сайрус Вэнс внес предложение об отставке всех министров с тем, чтобы Картер смог начать работать как бы заново. Президент поддержал предложение Вэнса. В этот момент в зал заседаний вошел Роберт Страус, который вел мирные переговоры по Ближнему Востоку, и не зная ни о том, что было только что объявлено, ни почему в зале такая мрачная атмосфера, шутя заявил, что им всем следует подать в отставку. Наступило молчание. Наконец один из министров, наклонившись к нему, прошептал: „Боб, заткнись“. Они все только что уже подали в отставку.
В общем, из состава кабинета вышли пять человек – некоторые были уволены, а некоторые ушли по доброй воле. Цель этого маневра заключалась в том, чтобы укрепить президентство Картера. Однако результаты были прямо противоположными. Внезапное известие об уходе министров вызвало новую волну неопределенности в стране и во всем западном мире. В этот день за ленчем редактор внутриполитического отдела „Вашингтон пост“ мрачно заметил, что в Америке произошло падение правительства.
ИГРА В КОШКИ‑МЫШКИ
Летом 1979 года на мировом нефтяном рынке цены при продаже за наличные снизились, но снижение было незначительным. Некоторые страны ОПЕК продолжали сокращать нефтедобычу. Ирак заявил, что расширяет эмбарго, чтобы не допустить поставок нефти Египту – стороннику арабского национализма и инициатору введения в ход нефтяного оружия в 1973 году – наказать Анвара Садата за совершенный им грех – подписание в 1978 году мирных договоренностей с Израилем в Кэмп‑Дэвиде. Нигерия, с 1973 года широко прибегавшая к „нефтяному оружию“, национализировала в качестве возмездия за якобы косвенные поставки в Южную Африку обширные промыслы „Бритиш петролеум“ и тут же продала их на аукционе по более высоким ценам.
Тем временем в обстановке неопределенности и страха перед будущим погоня за нефтью продолжалась – покупатели стремились создать запасы и до краев заполнить нефтехранилища. Утверждалось, что спрос продолжает расти. Это была роковая ошибка. Фактически, снижение, отразившее первые результаты энергосбережения, а также сокращение экономического роста, уже установилось, но на первых порах было почти незаметным. И лихорадочные закупки продолжались. Как отмечал координатор по поставкам в „Шелл“, „все переговоры с правительством‑производителем были настоящим состязанием в хитрости: и президентами компаний, и посредниками владела одна главная мысль – держаться за поставки по контрактам и ограничивать необходимость приобретения наличного товара. Поставщики, конечно, это понимали, и это открывало двери жестоким играм в кошки‑мышки…И условия контрактов постоянно ожесточались, а цены, которые приходилось платить, увеличивались“.
Как и при любой панике, важную роль играла информация – вернее, ее отсутствие. При наличии своевременных, достоверных и общепризнанных данных компании гораздо скорее осознали бы, что они наращивают запасы сверх необходимого уровня и что в основе спрос сокращается. Но таких статистических данных практически не было, а на те первые показатели, которые уже существовали, должного внимания не обращалось. Так что наращивание запасов продолжалось с более или менее прежним рвением. Так же обстояло дело и с повышением цен. Повышения вводились не только странами ОПЕК. Новая государственная нефтяная компания Великобритании, „БНОК“, подняла цены на пользующуюся спросом и надежную в смысле поставок сырую нефть с промыслов Северного моря и какое‑то время даже лидировала на рынке цен. „Если „БНОК“, а значит, и британское правительство действуют подобно странам ОПЕК, чего же ожидать от ОПЕК, разве она положит конец спирали роста цен на нефть?!“ – заметил один обозреватель, следивший за состоянием нефтяного рынка. Страны ОПЕК за исключением Саудовской Аравии не замедлили ликвидировать ценовой разрыв. Рынок наводнило еще большее число торговцев‑спекулянтов, для которых состояние неустойчивости, замешательства и волнений было наилучшей порой. Некоторые из них принадлежали к уже известным торговым фирмам по продаже различных товаров, некоторые пришли в этот бизнес после 1973 года, а некоторые были просто неопытными новичками, которые ринулись в конкуренцию, располагая средствами лишь на установку телефона и телекса. Все эти люди, казалось, были повсюду, при каждой сделке, наперебой состязаясь с традиционными компаниями за собственность, когда грузы, находившиеся еще в открытом море, продавались и перепродавались десятки раз. Был отмечен случай, когда один груз перепродавался 56 раз подряд. Единственной выгодой для этих торговцев была быстрая продажа. Речь шла об огромных суммах – взятый в отдельности груз только одного супертанкера мог бы принести 50 миллионов долларов.
Причиной появления торговцев явилось разрушение интегрированных систем монополий. В прежние дни нефть оставалась в пределах интегрированных каналов компаний или становилась предметом обмена между ними. Но теперь постоянно растущая доля общей нефтедобычи приходилась на государственные нефтяные компании, у них не было собственных систем переработки и сбыта и они продавали свою нефть широкому кругу покупателей: крупным нефтяным компаниям, независимым переработчикам и торговцам‑спекулянтам. Последние получали наибольшие прибыли, если им удавалось воспользоваться преимуществами арбитражных операций (то есть покупки товара на различных рынках с целью получения прибыли), пользуясь разницей между более низкими ценами на рынке контрактов и более высокими и более неустойчивыми ценами на рынке наличного товара. „Торговец мог оказаться в превосходном положении, – заметил исполнительный директор одной монополии. – Все, что нужно сделать, так это суметь получить какой‑то срочный контракт“. Затем он мог полностью менять свою тактику и продавать на рынке наличного товара один баррель на 8 долларов дороже, получая с одного груза нефти целое состояние. И как получал торговец такой фантастически выгодный и лакомый временный контракт? Для получения такого контракта ему нужно было уплатить смехотворно малый комиссионный сбор соответствующим сторонам. А иногда из рук в руки просто переходили конверты из простой бумаги“. По сравнению с тем, что торговец получал взамен, это можно было расценивать лишь как самый безобидный знак благодарности.
Таким образом, летом и ранней осенью 1979 года на мировом нефтяном рынке царила анархия, последствия которой были неизмеримо сильнее, чем в начале тридцатых после открытия в Восточном Техасе месторождения „Папаша Джойнер“ и в самые первые дни развития нефтяной промышленности в Запад ной части Пенсильвании. И в то время, как карманы производителей и торговцев распухали от денег, потребителям приходилось все глубже запускать руки в свои кошельки, расплачиваясь за панику. Для многих торжествовавших экспортеров это было еще одной великой победой в борьбе за власть нефти. Здесь не было никаких ограничений, считали они, ни в том, что способен выдержать рынок, ни в том, какую прибыль они получат. В западном мире уже появились мрачные предчувствия, что ставкой были не только цена самого важного в мире товара, не только экономический рост и целостность мировой экономики, а, возможно, даже мировой порядок и мировое сообщество, каким они его себе представляли.
ГЛАВА 34. „МЫ ПРОПАЛИ… „
Среди тех, кто летом 1979 года вышел из кабинета министров Джимми Картера, был и Джеймс Шлесинджер. Находясь в подавленном настроении из‑за складывавшейся ситуации не только на рынке энергоносителей, но и во всей внешней политике, в том числе и позиции Соединенных Штатов, Шлесинджер решил дать выход своим чувствам в прощальном выступлении в Вашингтоне, точно так же, как и четыре года назад, когда Джералд Форд освободил его с поста министра обороны. Еще более мрачный, чем обычно, Шлесинджер хотел, чтобы на этот раз его выступление прозвучало как наставление и предупреждение. Он начал со ссылки на книгу Уинстона Черчилля „Мировой кризис“, посвященную истории Первой мировой войны. Черчилль писал о своих усилиях перевести британский флот с угля на нефть и о риске оказаться в зависимости от иранской нефти. Теперь, шесть десятилетий спустя, этот риск стал реальностью, внушавшей предчувствие беды и страх.
„Сегодня мы стоим на грани мирового кризиса большего масштаба, чем описанный Черчиллем полстолетия назад – и более зловещего из‑за связанных с нефтью проблем, – говорил Шлесинджер. – В перспективе – почти никаких улучшений. Любой серьезный срыв поставок в результате политических решений, политической нестабильности, террористических актов или чисто технических проблем повлечет за собой резкие и тяжелейшие потрясения…Будущее энергетики лежит во мраке. И в следующем десятилетии этот мрак еще более сгустится“. И далее, говоря о себе: „Я не принадлежу к тем, кто постоянно лишь предается раздумьям“. Впрочем, в сложившейся ситуации он уже больше ничего не мог сделать. И так с этими невеселыми прощальными словами, а также и с чувством некоторого облегчения он ушел с арены общественной политики. Вскоре пессимизм его слов и тревога перед растущей, по его мнению, уязвимостью Запада, а по мнению других, его закатом, приобрели еще более невероятные и разрушительные очертания10.4 ноября в 3 часа утра по вашингтонскому времени в отделе оперативной информации на седьмом этаже госдепартамента раздался телефонный звонок. Звонила сотрудница политического отдела посольства США в Тегеране Элизабет Энн Свифт. Она сообщила, что толпа молодых иранцев прорвалась на территорию посольства, окружила канцелярию и штурмует другие здания комплекса. Через полтора часа она позвонила снова – иранцы подожгли посольство. Еще через полтора часа была получена весть, что за дверями ее кабинета несколько иранцев угрожают расправой двум безоружным американцам, что работники посольства безуспешно пытаются связаться с кем‑либо из властей в иранском правительстве. Сейчас американцам связывают руки, говорила она своим размеренным профессиональным тоном потрясенным слушателям на другом конце линии. „Мы пропали…“ – были ее последние слова, когда иранец, к рубашке которого был приколот портрет Хомейни, вырвал у нее из рук трубку. Затем всех американцев, предварительно завязав им глаза, куда‑то увели. А линия еще долгое время продолжала работать, хотя в комнате никого не было. Затем она отключилась.
Около шестидесяти трех американцев – весь персонал, который остался в посольстве, были взяты в заложники огромной возбужденной толпой фанатиков, которых позднее во всем мире стали называть „студентами“. Некоторых американцев вскоре освободили, оставив в заложниках пятьдесят человек. Начался иранский кризис с заложниками, новая фаза второго нефтяного шока, вторая катастрофа, принявшая еще более зловещую геополитическую окраску.
Ярость иранцев, взявших американцев в заложники, сосредоточивалась на Мохаммеде Пехлеви и его связи с Америкой. В свое время его отца, шаха Реза Пехлеви, приютила Южная Африка. Другая судьба ожидала его сына, который, бежав из Ирана, стал современным воплощением образа Летучего голландца. Его не принимала ни одна гавань, и он, по‑видимому, был обречен на вечные странствия. Из Египта он отправился в Марокко, затем на Багамы, оттуда в Мексику. Но никто не хотел предоставить ему постоянное убежище: он был отверженным, парией, человеком, вызывавшим в мире очень мало симпатий. Но главное, ни одно правительство не хотело подвергать риску начавшееся восстановление политических и экономических отношений с загадочным и непостижимым Ираном. Все внимание последних лет, вся лесть, заискивание премьеров и просьбы министров промышленных стран, поклоны и расшаркивание сильных мира сего – словно никогда и не существовали. Положение осложнялось еще и тем, что рак и сопутствующие болезни пожирали тело шаха. Поистине удивительно, что только в конце сентября 1979 года, по прошествии более восьми месяцев после изгнания шаха из Ирана, американское руководство узнало, что шах серьезно болен. И только 18 октября стало известно, что у него рак. Картер категорически отказался разрешить шаху въезд в Соединенные Штаты. И после споров и обсуждений, месяцами шедших в высших эшелонах власти, и усилий Генри Киссинджера, Джона Макклоя, Дэвида Рокфеллера и других влиятельных лиц его согласились принять на лечение. Он прибыл в Нью‑Йорк 23 октября. И хотя его поместили в Нью‑Йоркскую клинику Корнельско‑го медицинского центра под именем заместителя госсекретаря Дэвида Ньюсома – о присутствии шаха в США сразу же стало известно и оно широко комментировалось в прессе.
Через несколько дней, когда шах еще проходил курс лечения в Нью‑Йорке, помощник президента Картера по вопросам национальной безопасности Збиг‑нев Бжезинский присутствовал на приеме в Алжире по случаю 25‑летней годовщины Алжирской революции. В беседе с новым иранским премьер‑министром Мехди Базарганом и его министрами иностранных дел и обороны Бжезинский, говоря об отношении к новому режиму Ирана, обещал, что США не будут ни участвовать в каких‑либо заговорах против Ирана, ни поддерживать их. Базарган и его министры выразили протест против разрешения на въезд шаха в Соединенные Штаты и потребовали, чтобы к нему допустили иранских врачей, которые установят, действительно ли шах болен или же болезнь лишь предлог, маскирующий заговор.
Сообщения об алжирской встрече, последовавшие после прибытия шаха в Нью‑Йорк, встревожили теократических и более радикальных соперников Ба‑заргана, равно как и молодых воинственно настроенных фундаменталистов. Шах был врагом и архизлодеем. Его присутствие в Соединенных Штатах заставило вспомнить события 1953 года, падение Мосаддыка, бегство шаха в Рим и затем его триумфальное возвращение на трон. И вызывало страх, что Соединенные Штаты устроят еще один такой же переворот и снова посадят шаха на трон. Ведь Великий Сатана – Соединенные Штаты был способен на все самое гнусное. Ведь уже теперь, всего лишь через полторы недели после прибытия шаха в Нью‑Йорк Базарган о чем‑то любезничает с Бжезинским, одним из главных агентов Сатаны. И с какой целью?
„СМЕРТЬ АМЕРИКЕ“
Все это послужило и стимулом, и предлогом для захвата посольства. Вполне возможно, что первоначально предполагалась лишь сидячая демонстрация протеста, однако она вскоре переросла в захват посольства и взятие заложников, равно как и в гигантское цирковое представление перед посольством, с продажей революционных кассет, ботинок, свитеров, шляп, печеной сахарной свеклы и т. п. Занявшие посольские здания иранцы даже отвечали на телефонные звонки словами „шпионское гнездо слушает“. Аятолла Хомейни и его ближайшее окружение, по всей вероятности, знали о плане нападения и одобряли его. И то, что они использовали это в своих целях, было совершенно очевидно. Последовавший кризис помог им разделаться с Базарганом и всеми сторонниками прозападной и светской ориентации, укрепить свою власть, ликвидировать противников, в том числе и тех, кого Хомейни называл „безмозглыми поклонниками Америки“, и усилить элементы теократического режима. Пока это не было достигнуто, кризис с заложниками продолжался. Он растянулся почти на пятнадцать месяцев – точнее на 444 дня. Каждое утро американцы читали в своих газетах о „пленении Америки“. Каждый вечер им показывали телевизионное шоу „Американцы в заложниках“, сопровождавшееся не прекращавшимся хором иранских фанатиков, выкрикивавших „Смерть Америке“. Как это ни было иронично, но, показывая подобные вечерние программы, Эй‑Би‑Си нашла наконец способ успешно конкурировать с популярной передачей Джонни Карсона „Сегодня вечером“.
Кризис с заложниками убедительно говорил о том, что смена власти на мировом нефтяном рынке в семидесятые годы была лишь частью более широких и драматических событий в мировой политике. Он как бы подчеркивал, что Соединенные Штаты и вообще Запад находятся в состоянии упадка, в оборонительной позиции и, видимо, не могут защитить свои интересы, ни экономические, ни политические. Вот как через два дня после захвата заложников суммировал положение Картер: „они схватили нас за яйца“. Антиамериканские выступления охватили не только Иран. Они усилились на всем Ближнем Востоке и были направлены против присутствия в регионе Соединенных Штатов. В конце ноября 1979 года, спустя несколько недель после захвата заложников, около 700 вооруженных фундаменталистов, резко настроенных против саудовского правительства и его прозападной политики, захватили главную мечеть в Мекке, что планировалось как первый этап восстания. Изгнать их удалось лишь с очень большим трудом. Захват мечети не повлек за собой более широких волнений, но вызванная им волна прокатилась по всему исламскому миру. В начале декабря начались выступления шиитов в Эль‑Хасе, центре нефтяного района в Восточной провинции Саудовской Аравии. Затем через несколько недель мир потрясли еще более драматические события – советские войска вошли на территорию Афганистана, восточного соседа Ирана. Россия, как многим казалось, была намерена реализовать свои полуторавековой давности амбиции и получить выход в Персидский залив, и теперь пользовалась замешательством на Западе, чтобы занять в этом регионе наиболее выгодные позиции. К тому же медведь становился все более смелым: это было первое со времени Второй мировой войны крупномасштабное выступление советских вооруженных сил за пределами коммунистического блока.
В январе 1980 года президент Картер выступил с внешнеполитической доктриной, получившей известность как „доктрина Картера“: „Пусть наша позиция будет совершенно ясна. Любая попытка внешних сил получить контроль над районом Персидского залива будет рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов, и такая попытка будет отражена всеми необходимыми средствами, включая военные“. Доктрина Картера четко определила, то, о чем высказывались американские президенты начиная с 1950года, когда Гарри Трумэн обещал королю Ибн Сауду военно‑экономическую помощь. Получившая еще более широкий исторический резонанс, она была во многом сходна с декларацией Ланздауна 1903 года, в которой британский министр иностранных дел того времени предупреждал Россию и Германию о том, что им следует держаться подальше от Персидского залива.
В 1977 году, в первый год своего президентства, Картер снискал уважение в нефтяном мире, заставив шаха отказаться от намерения установить более высокие цены на нефть. В глазах многих он был волшебником, который приручил шаха и обратил ценового ястреба в уступчивого голубя. Он добился подписания Кэмп‑Дэвидских мирных соглашений между Израилем и Египтом. Но теперь другие события отодвинули в тень все эти достижения. Шах был изгнан, иранская революция вызвала нефтяную панику 1979 года, президентство Картера продолжали преследовать события в Иране, а сам Картер оказался политическим заложником толпы воинствующих тегеранских „студентов“.
После захвата заложников доживавший свои последние дни шах и его окружение, словно испытывая чувство вины, быстро покинули Соединенные Штаты. Последние часы перед отъездом они, безнадежно отрезанные от мира, провели на одной из американских военно‑воздушных баз, в изоляторе с зарешеченными окнами, предназначавшимся для людей, потерявших рассудок. Они вылетели сначала в Панаму, затем снова в Египет, где уже живший на наркотиках шах умер в июле 1980 года, полтора года спустя после бегства из Тегерана. Его никто не оплакивал. К этому времени Мохаммед Пехлеви, сын офицера казачьей бригады, уже не играл никакой роли ни в исходе кризиса с заложниками, ни в ликвидации паники на мировом рынке нефти и даже в играх геополитиков, в которых его вес был прежде так велик1.
Ответом Картера на захват заложников стало немедленное введение эмбарго на импорт иранской нефти в Соединенные Штаты и замораживание иранских активов в американских банках. В качестве контрмеры иранцы запретили всем американским фирмам экспортировать свою нефть. Запрет на импорт и замораживание активов были, в сущности, единственными инструментами воздействия, которые имелись у Картера под рукой. Замораживание активов больно ударило по Ирану, запрет на импорт нефти – нет. Но он вызвал перераспределение поставок во всем мире, дальнейшее нарушение их каналов и появление на рынках наличного товара еще большего числа обезумевших торговцев‑спекулянтов, которые подняли цены на новую высоту. Некоторые партии нефти уходили по 45 долларов за баррель, для встревоженных торговых компаний Японии иранцы назначили за баррель своей нефти цену в 50 долларов. Беспорядки и волнения, последовавшие после захвата заложников, усилили всеобщую нервозность и тревогу на рынке, способствуя дальнейшим, по‑видимому, бесконечным циклам панических закупок и повышения цен. Как через четыре дня после захвата заложников довольно сухо заметил исполнительный директор одной монополии, „в такой ситуации компании ощущают необходимость в увеличении тех запасов, объем которых прежде считался нормой“. На языке нефтяной отрасли накопление запасов называлось их „защитой“ – другими словами, это была страховка от неожиданностей.
Кризис с заложниками высветил присутствие и еще более сложных проблем. Он показал очевидную слабость, даже беззащитность стран‑потребителей – вчастности, Соединенных Штатов, чья сила основывалась на послевоенном политическом и экономическом порядке. И более того, он, по‑видимому, утверждал, что мировое господство фактически принадлежит экспортерам нефти. По крайней мере, так было на поверхности. Но на нефтяном рынке действовали силы еще более могущественные, чем правительства. И вот здесь экспортеры допустили ошибку в своих расчетах, которая окажется для них роковой.
БАЗАР
Растущие цены на нефть стали на многие месяцы предметом постоянного внимания президентов и премьер‑министров, так же как и пищей для первых страниц газет. Они были предметом чрезвычайной тревоги и для лидеров Саудовской Аравии. Теперь саудовское руководство снова тревожили и потеря контроля над рынком, и тот факт, что он, по‑видимому, перешел в руки таких воинствующих и неуступчивых соперников как Ливия и Иран. Саудовцы считали, что бешеный рост цен приведет к спаду в мировой экономике, вызовет кризис и даже крах и, следовательно, угрожает их собственному благополучию. Времена, когда будущее экономики Саудовской Аравии определялось числом приходивших в Мекку паломников, были давно позади. Главным теперь для Эр‑Рияда были „уровни роста“ – мировых процентов, курсов обмена валют, инфляции, экономического спада. Саудовцы опасались, что их положение покачнется и по другой причине: постоянное повышение цен ликвидирует доверие потребителей к их нефти и, таким образом, будет стимулировать давнишнюю конкуренцию с нефтью ОПЕК, а также широкомасштабную разработку альтернативных энергоносителей. Особенно опасно это было для страны с огромными нефтяными ресурсами, рассчитывавшей жить на доходы от них и в двадцать первом столетии.
В свете такой перспективы саудовцы усилили нажим. Ямани, выступая за необходимость энергосбережения, которое должно остановить рост цен, стал больше походить на ястреба, чем любой западный лидер. Саудовцы пытались, даже если это и означало отказ от определенной части доходов, удержать свои официальные цены на прежнем уровне, по крайней мере, в сравнении с теми ценами, которые запрашивали другие экспортеры. С этой целью они продолжали увеличивать нефтедобычу: лишний объем поставок должен был привести к снижению цен. Но результаты не торопились проявляться. „Мы теряем контроль надо всем, – с болью заявил Ямани в середине октября 1979 года после нового повышения цен Ливией и Ираном. – Это вызывает у нас чувство глубокой неудовлетворенности. Мы не хотели бы, чтобы процесс шел подобным образом“. Затем спустя несколько недель начался кризис с заложниками. Рынок, находившийся в состоянии возбуждения и нервозности, отреагировал новыми скачками цен, несмотря на контрмеры саудовцев. Была ли надежда на какую‑либо стабилизацию? Все взгляды устремились к 55‑й сессии ОПЕК, которая должна была состояться в Каракасе в декабре 1979 года.
В сороковые годы, когда Хуан Перес Альфонсо только что стал министром нефтяной промышленности Венесуэлы, холм на южной стороне Каракаса был плантацией сахарного тростника. Теперь здесь стоял „Таманако“ – разросшийся международный отель с более старым боковым крылом и новыми пристройками и грандиозным открытым плавательным бассейном – монумент, свидетельствующий о развитии нефтяной промышленности Венесуэлы. Здесь обычно останавливались люди, занимающиеся в Каракасе нефтяным бизнесом, и здесь теперь собрались на совещание министры стран ОПЕК. Перед ними стоял вопрос, – как снова унифицировать ценовую структуру ОПЕК, в которой сейчас отсутствовала какая‑либо согласованность. Официальная цена Саудовской Аравии составляла 18 долларов за баррель, цены других стран поднимались до 28 долларов а цены на рынке наличного товара колебались между 40 и 50 долларами. До начала совещания саудовцы объявили, что они повысят свою цену на 6 долларов, то есть до 24 долларов, с тем, чтобы другие экспортеры понизили свои цены до этого уровня. Но это вряд ли могло произойти: иранцы незамедлительно подняли цену еще на 5 долларов. И теперь снова, как это происходило с пятидесятых годов, самая ожесточенная схватка развернулась между Саудовской Аравией и Ираном.
Большую часть этого года саудовцы неуклонно производили дополнительный объем нефти с тем, чтобы противостоять повышению цен. В 1979 году нефтедобыча ОПЕК снова возросла до 31 миллиона баррелей в день, что даже при прекращении добычи в Иране было на 3 миллиона баррелей выше, чем в 1978 году. Куда уходил дополнительный объем нефти? Не на фактическое потребление, в чем Ямани был уверен, а на запасы компаний, опасавшихся, что поставки в дальнейшем будут снова прерваны. В какой‑то момент излишки запасов поступали на рынок, сбивая цены. „Политические решения не могут перманентно отрицать установленные свыше законы спроса и предложения, – позднее пояснял Ямани. – С повышением цен спрос идет вниз, это же ясно, это – азбучная истина“.
В „Таманако“ Ямани поселился в президентских апартаментах на последнем этаже, освобожденных по его просьбе нефтяным министром Венесуэлы, и начал кампанию за принятие своей точки зрения. Переговоры нефтяных министров в апартаментах Ямани стали настоящим марафоном. Ямани предупредил министров об опасности, как он ее себе представлял: они действуют вопреки собственным интересам, уже налицо признаки ослабления спроса, дальнейшее повышение цен приведет к „катастрофе в мировой экономике“. Несколько министров согласились с ним, большинство же – нет. Когда Ямани сказал, что спрос на нефть стран ОПЕК катастрофически упадет, и им придется сократить нефтедобычу, чтобы защитить цены, и что в дальнейшем цены в любом случае резко снизятся, они подняли его на смех. Один из министров сказал, что Ямани, должно быть, шутит, другой, – что он явно набрался наркотиков. Целых одиннадцать часов в апартаментах Ямани шел спор, но никакого соглашения выработано так и не было. Никакой официальной цены вообще не существует, подытоживая, сказал Ямани, ОПЕК и нефтяной рынок превратились в базар. Он также предупредил других производителей, что „на рынке скоро будет море нефти“. Падение цен было не за горами.
Однако экспортеры проигнорировали это предостережение: они верили в то, что говорили. „Видит бог, излишка нефти не будет, и цены не упадут“, – словно припев повторял министр нефтяной промышленности Ирана. Большинство экспортеров полагали, что спрос настолько устойчив, что они могут диктовать любые цены. И они продемонстрировали свою самоуверенность сразу же после совещания: Ливия, Алжир и Нигерия снова повысили цены. Их примеру последовали другие.
Совещание в Каракасе в те последние дни бурного 1979 года показало, чтоэкспортеры утратили связь с реальностями рынка. Спрос действительно падал, разрабатывались новые месторождения, паника закупок постепенно стихала, запасы росли, на рынке наличного товара снижались цены. К тому же саудовцы неуклонно наращивали излишний объем нефтедобычи. Другие производители, однако, продолжали взвинчивать цены, хотя некоторые из них все же сократили добычу, что способствовало тенденции повышения цен. Теперь говорили о „мини‑завале“ нефти, но это было больше, чем компенсация в условиях события, названного новой „мини‑паникой“. В условиях кризиса с заложниками Вашингтон стремился привлечь страны Западной Европы и Японию на свою сторону и при их участии расширить эмбарго, то есть санкции против Ирана. И эти усилия Вашингтона лишь еще более обострили нервозность рынка.
Затем в апреле 1980 года растерянная вконец администрация Картера, пытаясь найти выход из тупиковой ситуации, предприняла военную операцию по освобождению заложников. Восемь вертолетов, взлетев с авианосца „Нимиц“, направились в пустынное место в Иране, получившее кодовое название „пустыня номер один“. Там под покровом темноты им предстояло ожидать шесть самолетов С‑130. Тяжелые транспортные самолеты должны были дозаправить вертолеты, а также доставить группы захвата, которые на вертолетах направятся в Тегеран. Они захватят американское посольство, освободят заложников и доставят их на аэродром вблизи Тегерана, безопасность которого будут обеспечивать американские военно‑воздушные силы.
Таков был план. Но на пути к месту встречи с транспортными самолетами у одного вертолета возникги навигационные проблемы, у другого выявились технические неполадки. Затем среди ночи возле стоявших вертолетов проехали три иранские автомашины, в том числе автобус с 44 пассажирами, которые, естественно, обнаружили вертолеты. В слепящей песчаной буре один из оставшихся вертолетов столкнулся с самолетом С‑130 и загорелся, при этом погибли несколько американских военнослужащих. Теперь оставалось только пять вертолетов, для выполнения операции требовалось как минимум шесть. По прямому приказу Картера операция была отменена. О ее провале моментально стало известно, и средства массовой информации всего мира расписывали его во всех подробностях. После этого иранцы, на тот случай, если Соединенные Штаты снова предпримут попытку освободить заложников, разместили их в городе по разным домам. Сам факт операции и ее позорный провал серьезно обострили напряженность на рынке. В добавление к этому, объем иранской нефтедобычи снова упал, и все вместе взятое положило начало новому витку панических закупок нефти. В нефтяных компаниях снова воцарилась тревога по поводу уязвимости поставок и возможности новых неприятностей, и они в качестве „страховки“ продолжили накапливать запасы.
Общая перспектива на будущее была мрачной. Согласно общему мнению о состоянии рынка, „мини‑завал“ к весне 1981 года должен был иссякнуть. Комитет ОПЕК по долгосрочной стратегии выступил с планом, предполагавшим 10 – 15‑процентное повышение цен на нефть, начиная от ее текущей цены, что означало 60 долларов за баррель по истечении пяти лет. Учитывая мрачность сложившейся ситуации, сомневаться в том, что так и произойдет, вряд ли стоило. Через пять дней после провала попытки освобождения заложников директор Центрального разведывательного управления, давая показания в одном из сенатских комитетов, сказал: „В политическом плане главное сейчас то, насколько ожесточенной станет борьба за поставки энергоносителей“. „Нефть и упадок Запада“ – так суммировал общее мрачное настроение летом 1980 года заголовок статьи в „Форин афферс“.
В июне 1980 года страны ОПЕК снова собрались на совещание в Алжире. Саудовцы, теперь поддерживаемые Кувейтом, снова попытались положить конец базару на нефтяном рынке и унифицировать цены – и снова безуспешно. Средняя цена на нефть теперь была 32 доллара за баррель, почти в три раза выше, чем полтора года назад. Именно в это время, сидя в кофейне алжирской гостиницы, непонятый большинством делегатов и все еще размышлявший об „установленных свыше законах спроса и предложения“ Ямани поделился со своим другом одолевавшими его мыслями. „Они слишком жадны, слишком жадны, – сказал он. – И за это они жестоко поплатятся“.
Действительно, спрос, как и предупреждал Ямани, сократился, и цены на нефтяном рынке снова начинали понижаться. Наблюдая за тенденциями рынка летом 1980 года, можно было ожидать, что прогнозы Ямани в Алжире, по всей вероятности, скоро оправдаются. Запасы были слишком велики, признаки экономического спада уже появились, в странах‑потребителях цены на нефтепродукты и спрос на них падали, а излишки запасов все росли. Компании предпочитали хранить нефть даже в супертанкерах, как бы дорого это ни обходилось, а не продавать ее с убытком на рынке. Теперь наступила очередь покупателей отказываться от контрактов, и спрос на нефть ОПЕК сокращался. Действительно, в середине сентября ряд стран ОПЕК, чтобы сохранить стабильность, добровольно согласились сократить нефтедобычу на 10 процентов.
Тем временем приближалась 20‑я годовщина создания ОПЕК. За два десятилетия из какой‑то незаметной группы эта организация превратилась в колосса мировой экономики, и к саммиту ОПЕК в ноябре готовились грандиозные торжества. В преддверии их специальный комитет уже разрабатывал планы их проведения. Готовилось издание книги по официальной истории организации, а также снимался фильм. На великое торжество, которое должно было состояться в Багдаде, где в 1960 году была создана ОПЕК, предполагалось пригласить полторы тысячи журналистов. Утром 22 сентября 1980 года министры нефти, финансов и иностранных дел стран ОПЕК собрались в бывшей резиденции Габсбургов в Вене, чтобы продолжить планирование багдадского торжества. Но через несколько минут в зале вдруг возникло какое‑то замешательство, и в обстановке почти полной растерянности началось закрытое совещание.
В Багдаде был уже подготовлен план совершенно другого события.
ВТОРАЯ БИТВА ЗА КАДИСИЮ: ИРАК ПРОТИВ ИРАНА
В тот день, когда министры готовились открыть заседание в Вене, военные самолеты Ирака без какого‑либо предупреждения наносили бомбовые удары по целям в Иране, а войска, широким фронтом вторгшиеся на его территорию, обстреливали из тяжелых орудий города и жизненно важные объекты. Внезапное начало войны снова потрясло район Персидского залива и подвергло опасности всю систему поставок нефти, угрожая третьей по счету катастрофой, третьим нефтяным шоком.
Пограничные инциденты и стычки между Ираком и Ираном происходили задолго до 22 сентября, и уже с прошедшего апреля война представлялась все более вероятной. Военные действия между Ираком и Ираном уходили корнями в глубокое прошлое, и теперешнюю войну можно было рассматривать как продолжение конфликтов, возникших почти пять тысяч лет назад, на заре исторически зарегистрированной древнейшей мировой цивилизации в „Благодатном полумесяце“. Тогда между воинами Месопотамии, современного Ирака, и Элама, современного Ирана, происходили кровавые сражения. В одной из поэм древности сохранилось описание страшной картины гибели гордого и славного города Ур, где крепостные стены были „высоки, как сияющие вершины гор“, города, который был разграблен и разрушен воинами Элама четыре тысячи лет назад:
Не черепки – тела
Закрывали проходы
Зиявших ранами стен.
Врата и дороги
Везде мертвецы,
Где праздник ранее шел
И толпа веселилась,
Теперь лежали они, все растерзанные,
Расплываясь в адском солнечном пекле.
Через четыре тысячелетия картина оказывалась примерно такой же, когда современные наследники Месопотамии и Элама безжалостно уничтожали друг друга из‑за тех же самых болот и тех же самых выжженных солнцем раскаленных пустынь4.
Начало войне положило соперничество: этническое и религиозное, политическое и экономическое, идеологическое и личное. Сыграли свою роль борьба за господство в регионе, непрочность национального сплочения и чисто произвольный подход к созданию „государств“ и определению их границ на карте прекратившей свое существование после Первой мировой войны Османской империи. Так что в центре конфликта определенно лежала и география.
Шах был в ссоре со светским режимом партии Баас[Прим. пер. Партии арабского социалистического возрождения.] Багдада со времени его прихода к власти в 1968 году. Один из главных спорных вопросов касался Шатт‑эль‑Араб, извилистой реки, образованной слиянием в общее русло двух иракских рек, Тигра и Евфрата, и нескольких рек Ирана. По Шатт‑эль‑Араб на протяжении 120 миль проходила граница между двумя странами. Эта река имела исключительно большое значение для Ирана, как главный, однако не единственный, путь к Персидскому заливу – в Абадане, на речных наносах в низовье реки был построен его нефтеперерабатывающий комплекс. Но для Ирака Шатт‑эль‑Араб служила единственным выходом к морю. Протяженность береговой линии Ирака составляла всего примерно 28 миль, Ирану же принадлежали 1400 миль береговой полосы. Басра, главный портовый город Ирака, находился почти в 50 милях вверх по течению Шатт‑эль‑Араб, где из‑за мелководья и накопления ила часто приходилось вести работы по углублению и очистке дна. Таким образом, суверенитет над Шатт‑эль‑Араб приобретал конкретное и жизненно важное значение. Положение осложнял и тот факт, что значительная часть нефтяной инфраструктуры обеих стран – нефтепромыслы, насосные станции, аффинажные заводы, трубопроводы, погрузочные площадки, нефтехранилища – была сконцентрирована вдоль Шатт‑эль‑Араб и, так или иначе, зависела от нее. В качестве альтернативы транспортировке нефти по реке шах предусмотрительно построил трубопроводы, а также морской терминал на острове Харк, куда могли подходить гигантские супертанкеры. Ирак же экспортировал значительную часть своей нефти по узкому рукаву, проходившему в непосредственной близости от Шатт‑эль‑Араб, хотя существовали трубопроводы через Сирию и Турцию.
Шах и воинствующие баасисты уладили претензии, заключив соглашение, оформленное в Алжире в 1975 году и подписанное от имени Ирака Саддамом Хусейном. Для Ирана оно было более выгодным. Ирак отказался от выдвигавшихся в течение сорока лет требований установить границу по восточному, то есть иранскому, берегу, и согласился с настояниями Ирана, что она пройдет по средней линии навигационной части канала. Взамен шах предоставил Ираку то, что ему, по‑видимому, было крайне необходимо. Он согласился прекратить помощь курдам, – этнической группе, составлявшей свыше 20 процентов населения Ирака, которая в то время вела борьбу с партией Баас за автономию и национальное самоопределение исключительно богатого нефтеносного района. Отказ шаха от защиты интересов курдов был в значительной степени услугой за услугу, своего рода компенсацией, вероятно, необходимой для выживания режима партии Баас. И Багдад немедленно, всего через шесть часов после подписания в Алжире коммюнике с Ираном, начал решительное наступление против курдов. Через три года, в 1978 году, Ирак в свою очередь оказал Ирану любезность, впрочем, довольно незначительную. По просьбе шаха он выдворил из страны аятоллу Хо‑мейни, который жил в изгнании в Ираке уже четырнадцать лет. В свете того, что произошло позднее, это едва ли оказалось любезностью.
Самого Хомейни наполняла ненависть к иракскому режиму и страстное желание отомстить. Его ярость сосредоточивалась на Саддаме Хусейне, президенте Ирака. Хусейн уже приобрел репутацию одного из главных участников баасистских заговоров. Начало их движению положил Арабский союз студентов, который образовали, обучаясь в начале тридцатых годов в Парижском университете двое сирийцев. Десятилетием позже, вернувшись в Дамаск, они образовали партию Баас – Партию арабского возрождения. Это была воинствующая общеарабская партия, ставившая целью создание единого арабского государства и резко выступавшая против Запада и империализма.
Ультимативная по своей идеологии и требованиям, она презирала своих противников и была крайне враждебно настроена не только по отношению к ним, но и вообще ко всем, кто не входил в ее ряды. Методами достижения своих целей она провозглашала насилие и абсолютизм. Вскоре партия раскололась на две ветви, одна в конечном счете пришла к власти в Сирии, другая – в Ираке. Несмотря на общие корни, обе ветви стали, по‑видимому, непримиримыми соперниками, стремясь утвердить свое превосходство.
Отец Саддама Хусейна умер до его рождения в 1937 году, и, подрастая, молодой Хусейн видел смысл жизни в приверженности миру тайных заговоров икрайнего национализма партии Баас. Решающее влияние на него оказал его дядя, Хайралла, который воспитывал и опекал его. Крайний националист из суннитского арабского меньшинства, Талфах ненавидел и презирал европейскую культуру. И для дяди, и для племянника путеводной звездой в жизни был пронацистский переворот, совершенный в 1941 году пронационалистической группировкой Рашида Али, когда немецкие самолеты в Ираке вели военные действия против англичан. Когда же возникла угроза обстрела иракцами самолета, вывозившего британских женщин и детей, британские вооруженные силы перешли в наступление, и переворот провалился. Участвовавший в перевороте Талфах был арестован и осужден на пять лет. Из тюрьмы он вышел, приобретя сохранившееся на всю жизнь чувство горечи, гнева и ненависти, которое он внушил и своему племяннику. Переворот Рашида Али стал главной легендой баа‑систского движения. На формирование Саддама Хусейна также оказала влияние культура его родного города Тикрита, далекого от национальных интересов страны и ориентированного на суровую пустыню. В Тикрите была своя шкала ценностей, в которой главными качествами считались подозрительность, хитрость, коварство и внезапное применение силы для достижения цели, и эти качества Саддам Хусейн хорошо усвоил.
В период ликования и торжества после победы Насера в Суэце в 1956 году Саддам Хусейн, будучи еще подростком, вступил в партию Баас. Антиимпериалистическая риторика Насера пятидесятых годов с тех пор была с ним. Вскоре после вступления в партию он, как говорят, совершил свое первое убийство – местного политического лидера в Тикрите. Это прочно связало его с Баас и создало ему репутацию. В 1959 году он был одним из участников покушения в Багдаде на иракского правителя Абдель Керим Касема. Покушение сорвалось, и Хусейн, раненый в перестрелке и приговоренный к смертной казни, бежал в Египет. В Ирак он не возвращался до 1963 года. Затем он возглавил организацию в Ираке подпольных боевых групп баасистов. Занимая в течение нескольких лет ведущее положение в баасистском режиме, который пришел к власти в 1968 году, Хусейн стал президентом Иракской Республики в 1979 году, сменив Ахмеда Хасана эль Бакра, двоюродного брата его дяди, в ходе чистки, когда многие члены Баас были казнены. Для получения от них перед казнью нужных признаний Саддам Хусейн держал семьи некоторых из них в заложниках. К 1979 году он уже приобрел репутацию шакала, безжалостного, жестокого и опасного человека. Он был жесток и безжалостен ко всем, кого считал врагами, кто угрожал ему или препятствовал достижению его цели, или кого он просто считал нужным убрать.
При новом режиме Ирака у власти, особенно в правящей партии, в вооруженных силах, в службах безопасности стояли выходцы из Тикрита, многие из которых были так или иначе связаны с Хусейном родственными узами. Их присутствие было настолько очевидным, что в середине семидесятых годов правительство запретило пользоваться фамилиями, указывающими на принадлежность к клану, племени или месту рождения. Режим возглавляли члены семьи Талфаха и две другие близкородственные с Хусейном семьи. Это были единственные люди, которым он мог доверять – в той степени, в какой он мог вообще доверять кому‑либо. Он был женат на своей двоюродной сестре, дочери своего дяди Хайраллы. Аднан Хайралла – сын его дяди и брат его жены, а его двоюродный брат был министром обороны (пост, который он занимал до своейгибели в 1989 году, когда вертолет, на котором он летел, разбился). Хусейн Ка‑маль эль‑Маджид – его двоюродный брат и зять – ведал закупками оружия и руководил работами по созданию ядерного и химического оружия и ракет. Кроме того, не утратил своего влияния и Хайралла. В 1981 году государственное издательство выпустило его памфлет, название которого давало определенное представление о направлении политической мысли автора: „Троица, которую Бог не должен был создавать: персы, евреи и мухи“.
Хотя аятолла Хомейни был выдворен из Ирака в 1978 году, то есть до полного захвата власти Хусейном, он считал его лично ответственным за все свои невзгоды и относил к категории своих главнейших противников. Однажды, когда Хомейни попросили назвать его врагов, он ответил: „Во‑первых, шах, затем Американский сатана, затем Саддам Хусейн и Баас – его партия неверных“. Хомейни и его окружение видели в светском социалистическом режиме Баас непримиримых врагов веры и выступали против баасизма как „расистской идеологии арабизма“. И словно всех оскорбительных слов в адрес Ирака было Хомейни недостаточно, он неустанно подчеркивал незначительность Хусейна, называя его „карликовым фараоном“.
У Саддама Хусейна были веские основания опасаться обличительных выступлений Хомейни. Примерно половину населения Ирака составляли шииты, а режим партии Баас был светским и опирался на арабское суннитское меньшинство. В Ираке находились главные святыни шиитов, и волнения среди шиитов, подогревавшиеся Ираном, росли. В апреле 1980 года после покушения на премьер‑министра Хусейн приказал казнить самого популярного в Ираке шиитского аятоллу и заодно его сестру. Религиозного лидера Ирана он называл не иначе, как „поганый Хомейни“ и „шах в чалме“.
Инциденты и взаимные обвинения между двумя странами нарастали, и Ирак решил, что для него наступил удобный момент. В Иране, казалось, царил полный хаос, и в Багдаде все говорили, что „в Иране на каждом углу свое правительство“. Иранская армия была деморализована и переживала волну кровавых чисток. Ирак мог бы нанести сильный удар по соседу, сбросить Хомейни, положить конец угрозам Ираку со стороны бунтующих шиитов и утвердить свой суверенитет над водной артерией Шатт‑эль‑Араб, защитив, таким образом, свои интересы. Были и еще более соблазнительные возможности, – выступив в качестве „освободителя“ этнических арабов в иранском Хузистане (хотя менее половины жителей этого юго‑восточного района Ирана были арабского происхождения), привлечь их на свою сторону и, возможно, присоединить эту область, которую иракцы называли Арабистан, к Ираку или, по крайней мере, установить там свое влияние. Наградой было бы не только братское воссоединение, – в Хузистане сосредоточивалось 90 процентов запасов нефти Ирана. Вдобавок ко всему, зарубцевалась бы рана, нанесенная гордости Ирака, – бааси‑сты не забыли унижения, когда в 1975 году им пришлось уступить Ирану в вопросе о суверенитете над Шатт‑эль‑Араб. Но и это было еще не все. Шаха, регионального полицейского в районе Персидского залива, больше не было. И образовавшийся вакуум мог бы заполнить Ирак, утвердив свое превосходство, а заодно и своего президента, в регионе огромного международного значения. Более того, при изоляции, в которой оказался в арабском мире Египет, подписав Кэмп‑Дэвидские соглашения, Ирак, ликвидировав угрозу распространенияиранской революции, мог бы стать лидером и воинствующим защитником всего арабского мира. А также стал бы одной из главных нефтяных держав. Короче говоря, отказаться от таких соблазнительных возможностей было нелегко.
С приходом к власти Хусейн возомнил себя лидером арабского мира, что соответствовало панарабской идеологии партии Баас. Если Хомейни обосновывал легитимность своей власти событиями, которые произошли в VII столетии, то так поступит и Хусейн. Он назвал новую войну „второй битвой за Кадисию“ – первая произошла в 636 – 637 годах вблизи Наджафа, города на юге центральной части современного Ирана. За этой победой последовали триумфальные победы над персами в 642 году, отмеченные арабами как „победа побед“. Это определило судьбу Персидской империи. Государство Сасанидов распалось, его царь бежал на Восток, где в конечном счете, был убит местным правителем, а Персия вошла в состав арабского халифата. Через сто лет был основан Багдад, бывший в течение нескольких столетий политическим и экономическим центром Передней Азии. Теперь, в 1980 году, снова наступила очередь Багдада. Во всяком случае, так там считали.
Хусейн направил главный удар в сердце иранской нефтяной промышленности, в том числе на Абадан и Ахваз – последний тринадцать столетий назад был воротами, через которые был нанесен окончательный и смертельный удар по Персидской империи. Хусейн полагал, что это будет блицкриг, серия внезапных и сокрушительных ударов, которая приведет к достижению всех его целей. Этой точки зрения придерживались не только в Багдаде. В Вене, где заседание на уровне министров было сорвано известием о начале войны, буквально все считали, что через неделю, самое большее две, война закончится. Но в иракской стратегии был допущен серьезный просчет. Иранцы выдержали первый удар и стремительно перешли в контрнаступление. Нападение Ирака дало возможность аятолле Хомейни еще прочнее консолидировать свою власть, заткнуть рты критикам, освободиться от сторонников светской ориентации в правительстве и приступить к созданию Исламской республики. Все это способствовало мобилизации воли населения к сопротивлению. В защите страны приняли участие иранцы практически всех религиозных направлений, в том числе и арабы Хузе‑стана, которые не проявили никакого желания быть освобожденными и отнеслись к иракцам не как к „братьям“, а скорее как к захватчикам. Ирак не был готов встретить такой „подъем человеческого духа“. Впереди регулярных иранских сил, не думая о сохранении своей жизни, в бой шли сотни тысяч молодых иранцев, влекомые шиитским идеалом мученичества. Некоторые пришли на фронт, принеся с себой гробы, – они следовали словам Хомейни о том, что „абсолютное счастье в исламе – это убивать и быть убитым во имя пророка“. И им были розданы пластиковые ключи на небо, которые они носили на шее. Даже дети участвовали в разминировании проходов для менее ценных и более немногочисленных танков, и тысячи их погибли.
ТУПИК
Война вызвала новое обострение на нефтяном рынке. На второй день, 23 сентября 1980 года, иракские военные самолеты начали массированные бомбардировки иранского нефтеперерабатывающего комплекса в Абадане, самого большого в мире, которые продолжались в следующем месяце и вызвали серьезные разрушения. Бомбардировкам подверглись также и все иранские порты, и нефтяные центры. Проведенное Ираном контрнаступление полностью лишило Ирак возможности экспортировать нефть через Персидский залив. В свое время Иран убедил Сирию, где у власти находилась соперничавшая ветвь партии Баас, перекрыть иракский экспорт по трубопроводам через Сирию, что оставляло Ираку только один трубопровод через Турцию, имевший ограниченные возможности. В результате войны иранский экспорт нефти сократился, однако, экспорт Ирака был почти полностью прекращен, на что Хусейн, безусловно, не рассчитывал.
На первой стадии ирано‑иракской войны мировой рынок ежедневно не дополучал почти 4 миллиона баррелей нефти, то есть 15 процентов нефтедобычи стран ОПЕК и 8 процентов потребности западного мира. Цены на рынке наличного товара снова подпрыгнули. Легкие сорта арабской нефти достигли небывалой до того цены – 42 доллара за баррель. Рынком снова стал управлять страх. Был ли это третий шок, следующая стадия крушения Ближнего Востока и его нефтяной промышленности? Потеряет ли Ирак свое место в мировом нефтяном балансе? Возобновит ли Иран поставки нефти? Не приведет ли борьба между суннитами и шиитами, другими словами, между арабами и персами, к дестабилизации всего района Персидского залива? Или же следует ожидать еще худшего, если Иран, где численность населения в три раза больше, чем в Ираке, победит и его фундаменталистская антизападная революция проникнет в сердце Ближнего Востока? Задумываясь над этими вопросами и их значением для мировой экономики, можно было проявлять двоякий подход. Первый, безусловно, обещал новые потрясения, второй указывал на обратное направление. Который же из них был более правильным?
Спрос на нефть, несомненно, ослабевал. Объяснялось ли его ослабление экономическим спадом, что означало временное снижение, или же это был результат энергосбережения, влияние которого окажется более долгосрочным. Сокращение деловой активности уже началось. Причиной его послужили и повышение цен, и решимость западных стран бороться с инфляцией, даже если это означало глубокий спад. Но каковы бы ни были причины, спрос явно падал.
Тем временем правительства, усвоив уроки 1979 года и работая в рамках Международного энергетического агентства, убеждали компании не совершать панических закупок, не драться за поставки и не повышать цены. Они предлагали компаниям использовать накопленные запасы. Целью этого шага было внести уверенность: с ситуацией можно справиться, это не повторение 1979 года, нужно проявлять спокойствие и избегать „нежелательных закупок“ (имелась в виду нефть, за которую на аукционах предлагались высокие цены). В призывах МЭА, несомненно, был резон, поскольку на этот раз положение компаний было совершенно иным. Начиная с 1979 года, они расходовали огромные средства на приобретение запасов по любой цене, включая огромное число дополнительных баррелей нефти, намного превышавшее спрос. Все эти лишние баррели ушли не в моторы автомашин, не в топки предприятий и электростанций. Они ушли в хранилища. Великая паника, следуя своей собственной логике, обернулась Великим накоплением запасов, и когда вспыхнула война, нефтехранилища всего мира были наполнены до краев и нефтяные компании фрахтовали супертанкеры, используя их как дополнительные плавающие емкости. Хранение запасов обходилось дорого. И если в какой‑либо спокойный период компаниям предложили бы сделать выбор между покупкой дополнительной нефти и расходованием имевшихся запасов, любая компания скорее всего выбрала бы последнее.
Но ирано– иракская война положила конец робко возвращавшемуся спокойствию, снова вызвала ажиотаж на рынке, и далеко не все компании были склонны, по крайней мере, первоначально, следовать рекомендациям МЭА и воздерживаться от „нежелательных закупок“. „Какую бы сдержанность мы не проявляли, – жаловался в ноябре 1980 года один переработчик, – всегда находится кто‑то, кто готов покупать по более высоким ценам, и кто, таким образом, взвинчивает их“. Вопросом первостепенной важности было, – как с наступлением нового кризиса компании распорядятся своими запасами. В периоды тревоги и неопределенности неизбежной тенденцией было – придержать, посмотреть, что будет дальше. Высокие цены предпочтительнее отсутствия поставок, особенно если расходы на следующий день обещают стать еще выше. Таким образом, многие игроки вновь рыскали по миру в поисках поставок. Среди них были и японские торговые и нефтяные компании – Токио был охвачен страхом, что наступает ситуация, грозящая продолжительным перерывом в поставках. Но японские компании были не одиночки. Исполнительный директор одной американской компании, подытоживая положение, сказал, что расходование запасов „поставит нас позднее в очень серьезное положение“. „Торговые фирмы, – пояснил он, – не могут позволить себе такой шаг. Предложение использовать запасы подразумевает наличие достоверной информации о времени окончания кризиса. Если б я знал, что к июлю нефтедобыча в Иране и Ираке вернется к предвоенному уровню, я бы, несомненно, их расходовал“. Но таких сведений у него не было.
В декабре 1980 года нефтяные министры стран ОПЕК встретились на острове Бали, чтобы снова обсудить вопрос о ценах. Однако прежде чем приступить к обсуждению, предстояло решить один крайне неприятный вопрос. В ноябре иранский министр нефтяной промышленности отправился осмотреть места боев вблизи Абадана. К несчастью, никто не удосужился сообщить ему, что район занят иракцами, и его захватили в плен. ОПЕК или не ОПЕК, иракцы отказывались освободить его. Иранцы были настолько возмущены, что угрожали бойкотировать все заседания ОПЕК. Могло ли в таких условиях начаться заседание?! Заниматься достижением компромисса выпало на долю искусному дипломату, индонезийскому министру нефтяной промышленности Суброто. В зале заседаний делегаты занимали места обычно в алфавитном порядке, и волею судеб Иран и Ирак были обречены сидеть рядом. Сейчас это было бы исключительно неприятно. Суброто нарушил существовавший порядок и посадил между ними Индонезию. Это дало некоторым повод пошутить, что теперь Шатт‑эль‑Араб как главный предмет спора между Ираном и Ираком принадлежит Индонезии. Но только одна проблема была решена, тут же возникла другая. Иранская делегация вошла в зал заседаний, неся большой портрет захваченного министра, который, несмотря ни на что, настаивали они, возглавляет их делегацию, а они лишь следуют его желаниям. Суброто разрешил поставить портрет в кресло для отсутствовавшего министра, чтобы он продолжал, даже при своем отсутствии, если уж не руководить, то вдохновлять членов своей делегации. Итак, послепреодоления еще одной неловкой ситуации, заседание началось. Завершилось оно принятием решения о еще одном повышении цен ОПЕК – до 36 долларов для всех, кроме саудовцев. Да, третий шок, по‑видимому, приближался.
Примерно в то же время, только в другой сторонЗемного шара, в Париже на заседание съехались министры энергетики промышленных стран. Как обычно, Ульф Лантцке, директор МЭА, устроил в своем офисе после ужина неформальную встречу для свободного обсуждения и обмена мнениями перед открытием официального заседания на следующее утро. Настроение присутствовавших было мрачным: усилия МЭА способствовать использованию запасов и не допускать панической скупки большим успехом не увенчались. Представитель МВТП Японии отметил, что выражение „нежелательные закупки“ страдает „неточностью и разные люди понимают его по‑разному“. Ажиотаж в закупках, которым особенно отличались японские торговые компании, стал больным местом в тот „вечер виски и сигар“ и вызвал резкие споры.
Когда время уже приближалось к полуночи, граф Этьен д'Авиньон из Бельгии, хорошо известный энергичный комиссар по делам Европейского сообщества, потерял терпение и, пристально посмотрев на японского представителя, резко сказал: „Если вы не утихомирите свои торговые компании, вам придется забыть о поставках ваших „Тойот“ и „Сони“ в Европу!“ В комнате повисла тишина. Японский представитель молчал, по‑видимому, вникая в значение выпада и обдумывая ответ. „Вы являетесь очень крупным международным служащим“, – наконец произнес он. И это было все, что он сказал.
Но МВТП усилило „административное руководство“ торговыми компаниями. Компании поняли намек и стали проявлять большую сдержанность в закупках. Так же поступили американские и британские компании. Игроки тоже руководствовались на рынке не только политикой правительств. И к концу 1980 года тучи начали понемногу рассеиваться. При высоких запасах спрос резко падал, и цены на рынке понижались. Такое сочетание делало все более экономически невыгодным придерживание запасов, – и использование их вместо дополнительных закупок, как на том настаивала МЭА, росло.
А в мире происходило не только фактическое сокращение потребления, – утраченный объем поставок нефти из Ирана и Ирака восполнялся поставками из других источников. Почти постоянно с конца 1978 года саудовцы качали дополнительные баррели нефти, стремясь задушить непрерывный рост цен и образумить своих собратьев по ОПЕК. „Мы создали море нефти, – однажды сказал Ямани, – и мы хотим, чтобы оно сохранялось, стабилизируя цены“. Саудовцы отнюдь не были намерены допустить, чтобы ирано‑иракская война нарушила их стратегию. В первые же дни сражений они объявили, что повышают нефтедобычу еще на 900 тысяч баррелей в день, до предела устойчивой производительности. Само по себе повышение было эквивалентно почти четверти утраченных объемов из двух воюющих стран. Другие производители ОПЕК тоже повысили нефтедобычу, на рынок также возвращался даже какой‑то объем нефти из Ирана и Ирака. Одновременно росла нефтедобыча в Мексике, Великобритании, Норвегии и в других не входивших в ОПЕК странах, а также на Аляске. Теперь это был уже не „мини‑завал“. При таких обстоятельствах любое нежелание использовать запасы исчезло, необходимость их использования вместо закупок не вызывала сомнений. Покупатели теперь начали выступать противвысоких цен. Не входящие в ОПЕК производители, стремясь увеличить свою долю на рынке, значительно снижали свои официальные цены. Их выгода оборачивалась потерей для ОПЕК, и спрос на нефть ОПЕК падал. В результате нефтедобыча стран ОПЕК в 1981 году была на 27 процентов ниже, чем в 1979 году и самой низкой с 1970 года. Прогнозы Ямани начали наконец сбываться.
Тупиковая ситуация, которая ожидала ОПЕК, приближалась, хотя ни экспортеры ОПЕК, ни нефтяная промышленность, ни западные страны‑потребители не имели никакого представления о том, что лежит впереди. Президентство Картера тоже подошло к концу. Последним унижением Джимми Картера, которому он подвергся со стороны иранцев, было освобождение взятых в американском посольстве заложников на другой день после того, как он покинул пост президента, уступив его Рональду Рейгану, чья жизнерадостная уверенность в себе и в силе Америки оказалась более приемлемой для электората, чем „болезненная нерешительность“ Картера.
Между тем нефтяной рынок все еще реагировал на феноменальный рост цен в семидесятые годы и страхи потребителей за будущее. И экспортеры по‑прежнему никак не хотели признать, что „объективные условия“ рынка действительно меняются. Они не хотели даже думать о снижении цен. Стабильности цен все еще не было, но наконец в октябре 1981 года экспортеры пришли к новому соглашению. Саудовская Аравия поднимала свою цену с 32 до 34 долларов за баррель, другие же согласились снизить с 36 до 34 долларов. Итак, цены были снова унифицированы. Когда же были учтены все изменения, оказалось, что средняя цена на мировом рынке из‑за повышения саудовцев поднялась примерно на один‑два доллара. Для других производителей компромисс означал снижение цены. Однако были и некоторые утешения. Саудовская Аравия согласилась, в качестве одного из условий сделки, вернуться к своему прежнему потолку нефтедобычи в 8,5 миллиона баррелей в день.
Иран и Ирак продолжали вести ожесточенную войну. Однако даже война между двумя наиболее крупными экспортерами только замедляла, но никак не прекращала действие мощных сил, которые были задействованы в результате двух нефтяных потрясений. В 1981 году октябрьское повышение цен ОПЕК было последним, по крайней мере, в течение этого десятилетия. „Установленные свыше законы спроса и предложения“ уже начали действовать, снижая цены, хотя обещанное Ямани грозное возмездие было еще впереди. Это было, как ранее сказал он, ясно, как дважды два.
ГЛАВА 35. ПРОСТО ОДИН ИЗ ТОВАРОВ?
И один из экономических подъемов прошлого в отрасли, в которой они происходят периодически, не мог сравниться с тем масштабом лихорадки, которая охватила мир с очередной вспышкой энергетического кризиса в конце семидесятых годов. Это был величайший из всех экономических подъемов. После того, как цена подскочила до 34 долларов за баррель, в движение пришли денежные средства, которые превосходили все, что ранее зарабатывалось или расходовалось. Нефтяные компании вкладывали свои доходы в новые разработки. Некоторые брали кредиты в банках, собирали деньги у жаждавших инвесторов и полностью использовали свои ограниченные активы, чтобы участвовать в этой безумной игре. Это был золотой век независимых нефтепромышленников. Они похлопывали друг друга по плечу, приобретали влияние, нанимали все большее число буровых установок и вели разведку на гораздо больших глубинах. Они расходовали и расходовали деньги. Прославляя все это, в самом конце семидесятых годов в эфир вышел сериал „Даллас“, где главным героем был нефтяной магнат без чести и совести Дж. П. Юинг, сменивший симпатичных Клампеттов из сериала „Деревенщина из Беверли‑Хиллс“ и явивший зрителям Соединенных Штатов и всего мира образ независимого американского нефтепромышленника новой эпохи.
Активность в американской нефтяной отрасли достигла поистине головокружительного и беспрецедентного уровня. Бешеные темпы развития привели неизбежно, к тому, что затраты вышли из‑под контроля. Цены на все, связанное с нефтью, повысились. Цены на землю – участки, пригодные для бурения – взлетели вверх. Так же, как и на недвижимость в нефтяных городах – Хьюстоне, Далласе и Денвере. Оплата труда буровой бригады выросла в несколько раз. Зеленых, еще не оперившихся геологов потчевали на славу и платили по 50 тысяч долларов в год за первую в их жизни работу после окончания учебного заведения. Геологи с 20‑тилетним стажем бросали крупные компании, чтобы самим заключать сделки, мечтая в один прекрасный день стать вторым ХЛ.Хантом или вторым Джеем Полом Гетти. Это были годы, когда врачи и дантисты Америки вкладывали свои деньги в предназначенные для поискового бурения фонды. Их убедили, что, если в их портфеле не будет ценных бумаг, их сбережения съест инфляция и растущие цены на нефть.
Существовало мнение, что нефтяная отрасль стоит на опасном краю, как тогда говорилось, „нефтяной горы“, и, подобно летящим с отвесной скалы камням, запасы ее начнут с такой же стремительностью падать. А истощение ресурсов в сочетании с активной позицией ОПЕК будут гарантировать высокие и постоянно растущие цены на становящийся все более редким товар. В результате с помощью инженеров и новых технологий придется искать замену нефти, что в свою очередь установит предел для повышения на нее цен. А это бы означало, что наконец‑то спустя семь десятилетий нефть, спрятанная в массивах западного Склона Скалистых гор в штатах Колорадо и Юта, появилась бы на рынке, как это обещалось всякий раз, когда добыча нефти в мире угрожающе сокращалась. Именно это предлагал сделать в 1979 году президент Картер для решения энергетических проблем страны.
Некоторые компании, как, например, „Оксидентал“ и „Юнокал“, уже работали над технологиями получения нефти из битуминозных сланцев. В 1980 году „Экссон“, самая крупная в мире компания, предвидя казавшуюся неизбежной нехватку, поспешно развернула работы на западном склоне Скалистых гор по осуществлению проекта „Колони шейл ойл проджект“. Шестьдесят лет назад, в очередной период нехватки, она приобрела земли в этом районе Колорадо, намереваясь вести разработки горючих сланцев для использования в топливных целях. Тогда из этого ничего не получилось. Теперь „Экссон“ была уже безусловным лидером в этой области и расходовала не меньше миллиарда долларов на разработку горючих сланцев, готовясь к приходу в энергетике „новой эры“. „У „Экссона“ был длительный роман со сланцами, – вспоминал ее председатель Клифтон Гарвин. – Это была сложнейшая задача в техническом и, конечно, в экономическом плане“. Тем не менее Америка была, по‑видимому, твердо намерена разрабатывать надежные источники жидкого топлива. А технологические возможности для этого уже казались доступными.
Но в течение следующих двух лет экономические перспективы резко изменились. В реальном выражении, цена на нефть снижалась, снижался и спрос. Таковы были и прогнозы на будущее. В странах‑экспортерах нефти нарастали излишние производственные мощности. Наряду с этим ориентировочная стоимость „Колони проджект“ продолжала расти. „Мы расходовали от 6 до 8 миллиардов долларов для получения 50000 баррелей в день, – вспоминал Гарвин. – И конца этим расходам не было видно. Однажды вечером я сказал себе, что я не могу таким образом расходовать деньги акционеров“. На следующий день Гарвин, собрав главных менеджеров, спросил, каковы будут последствия прекращения работ. „Это было трудное решение. Но я его принял“.
2 мая 1982 года. „Экссон“ в коротком сообщении объявила, что она прекращает работу над „Колони проджект“ – теперь, в условиях новых экономических перспектив, он утратил свою жизнеспособность.
Период подъема деловой активности на западном склоне Скалистых гор в Колорадо закончился буквально за считанные часы – сразу же после остановки работ. Городки Райфл, Беттлмент‑Меса и Пэрэшут повторили путь, пройденных городком Питхоул в Западной Пенсильвании, который всего за два года, 1865‑й и 1866‑й, вырос на месте глухих лесов, стал процветающим городком с населением в 15 тысяч человек, а затем превратился в город‑привидение, где из покинутых домов и магазинов уносили доски, чтобы использовать их для строительства в других нефтяных районах. Так и в этих трех городках штата Колорадо недавно построенные дома пустовали, газоны заросли сорняками, половина квартир остались не сданными – строительные рабочие со Среднего Запада собрали свои вещи и отправились домой, дороги стали пустынны, а подростки, не имея других занятий, занялись вандализмом, разрушая недостроенные дома и административные постройки. „Мой бизнес буквально умер“, – сказал владелец писчебумажного магазина в Райфл. И так же умер и городок. Бум прекращения бума не мог долго продолжаться.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Что же произошло с мировым нефтяным рынком и с самими ценами на нефть? Опасный рост инфляции угрожал не только экономической деятельности, но и всей социальной структуре западного мира. В качестве ответных мер правление Федеральной резервной системы США установило чрезвычайно рестриктив‑ную денежно‑кредитную политику, которая привела к резкому повышению процентных ставок, причем в один из периодов прайм‑рейт достигал исключительно высокого уровня, составляя 21,5 процента. Нехватка денежной массы нало‑жилась на отток покупательской способности из промышленного мира в результате повышения нефтяных цен. Общим следствием был глубочайший со времени Великой депрессии спад, имевший два низких уровня, первый в 1980 году и второй, более серьезный, в 1982 году. Свертывание экономической активности значительно уменьшило спрос на нефть в промышленных странах. Предполагалось, что развивающийся мир, являясь новым главным источником спроса, поддержит цены. Однако многие развивающиеся страны опутаны долгами, а в результате депрессия в промышленном мире пострадал рынок сырья, что привело к резкому экономическому спаду, заглушившему их спрос на нефть.
Более того, коренные перемены происходили и в самой энергетике. Прежние страхи нехватки начала двадцатых годов, а затем середины сороковых годов закончились избытком и перенасыщением, поскольку растущие цены стимулировали развитие новых технологий и разработку новых районов. Такая схема повторилась и при повышении цены до 34 долларов за баррель и ожидании еще более высоких цен. За пределами стран ОПЕК велись гигантские новые разработки. Огромное наращивание нефтедобычи в Мексике, на Аляске и в Северном море совпало по времени с волнениями, которые принес второй энергетический кризис. Значительными экспортерами становились Египет, Малайзия, Ангола и Китай. Одновременно и производителями и экспортерами стали и многие другие страны, несущественные каждая в отдельности, но вместе образовывавшие значительную группу. Крупные научные достижения также вносили улучшения в технологию поисковых работ, добычи и транспортировки. Пропускная способность Аляскинского трубопровода, первоначально составлявшая 1,7 миллиона баррелей в день, была повышена до 2,1 миллиона баррелей в день за счет применения добавки „сликем“, которая снижала торможение внутри трубопровода и ускоряла свободный поток. Помимо этого, при цене в 34 доллара за баррель оказалось возможным осуществить в разведочных работах и добыче много, что было экономически невыгодно при 13 долларах за баррель, и добыча в штатах США, расположенных между Канадой и Мексикой, продолжалась на более высокомуровне, чем даже ожидалось. Это, а также увеличившийся поток нефти с Аляски, означало, что в первой половине восьмидесятых годов нефтедобыча в США фактически возросла.
Что касается спроса, то и там происходили значительные изменения. Грандиозный марш двадцатого столетия к все более высокой зависимости от нефти в рамках общей структуры энергетики был завернут обратно, чему способствовали более высокие цены, соображения безопасности и государственная политика в этой области. Так, широкомасштабное возвращение в производство электроэнергии и в промышленность совершил уголь. Также быстро приступила к выработке электроэнергии и ядерная энергетика. В Японии в энергетике в целом и в производстве электроэнергии повысилась доля сжиженного природного газа. Вместе взятое, это означало, что во всем мире нефть выталкивается с некоторых ее самых важных рынков и быстро теряет свои позиции. В общей энергетике промышленных стран ее доля рынка опустилась с 53 процентов в 1978 году до 43 процентов в 1985 году.
Нефти доставалась не только уменьшавшаяся доля энергетического пирога, но и сам этот пирог сокращался, отражая существенное влияние растущей эффективности использования энергии, другими словами, энергосбережения. Хотя энергосбережение часто не принималось во внимание и даже вызывало насмешки, оказалось, что роль его огромна. В современном промышленном обществе энергосбережение означало главным образом не ограничение, не лозунг „мало – это красиво“, а большую эффективность использования и технологические инновации. Законодательство 1975 года, которое предусматривало увеличение в 2 раза средней топливной экономичности парка новых автомобилей – до 27,5 мили пробега при расходе одного галлона бензина – должно было снизить потребление нефти в Соединенных Штатах на 2 миллиона баррелей в день, что было примерно эквивалентно как раз тем 2 миллиона баррелей в день, которые давал дополнительный поток нефти с Аляски. В целом, к 1985 году эффективность использования энергии повысилась в Соединенных Штатах на 25 процентов, а нефти – на 32 процента по сравнению с 1973 годом. Если бы Соединенные Штаты сохранили уровни эффективности 1973 года, то ими было бы израсходовано на 13 миллионов баррелей больше, чем они фактически израсходовали в 1985 году. Экономия была огромной. Так же, как и в других странах. В Японии в тот же период на 31 процент повысилась эффективность использования электроэнергии и на 51 процент эффективность использования нефти.
К 1983 году, первому году подъема экономической активности, влияние энергосбережения и перехода к другим видам топлива было очевидно. Потребление нефти в странах некоммунистического лагеря составляло 45,7 миллиона баррелей в день, примерно на 6 миллионов баррелей меньше, чем в 1979 году, когда его высшая точка достигла 51,6 миллиона баррелей в день. Так что при падении спроса на 6 миллионов баррелей в день в период между 1979 и 1983 годами нефтедобыча за пределами стран ОПЕК возросла на 4 миллиона баррелей в день. Помимо этого, нефтяные компании энергично пытались освободиться от колоссальных запасов, накопленных на такой уровень спроса, который не материализовался.
Эти три тенденции – падение спроса, непрерывное наращивание нефтедобычи за пределами стран ОПЕК и обращение к демпингу огромных запасов – сократили обращение к нефти ОПЕК где‑то на 13 миллионов баррелей в день, то есть на 43 процента от уровня 1979 года! Иранская революция, а затем ирано‑иракская война нанесли серьезный урон возможностям этих двух стран. Тем не менее, вместо нехватки, которой все опасались, внезапно образовались большие излишки, превышавшие спрос на рынке – короче, возникло перенасыщение рынка, ведущее к существенному снижению цен.
НАКОНЕЦ – ОБРАЗОВАНИЕ КАРТЕЛЯ
Час расплаты для ОПЕК приближался. Еще только в 1977 году она производила две трети сырой нефти всего западного мира. А в 1982 году не входящие в ОПЕК страны впервые опередили ее, давая на миллион баррелей в день больше и постепенно этот объем повышая. Помимо этого, значительно увеличивался даже экспорт советской нефти в западные страны, Советский Союз стремился воспользоваться преимуществами, которые давали растущие цены, чтобы пополнить свои доходы в твердой валюте.
Значительные объемы новой нефти, особенно из Северного моря, продавались на рынках наличного товара, где цены на нее зависели от общего состояния рыночной конъюнктуры. Всего год или два назад цены на рынках наличного товара превышали официальные цены, теперь же они были намного ниже их. Многие компании, платившие официальные цены, теряли огромные суммы на операциях по очистке и сбыту. Наличные цены на нефть какого‑то одного сорта могли быть на 8 долларов ниже, чем по условиям контрактов. Этот разрыв, как заметил главный исполнительный директор немецкого филиала „Мобил“, представлял собой разницу между получением „маржи прибыли“ и „значительными потерями“. При таких обстоятельствах любой покупатель, способный произвести простейшие арифметические подсчеты, отправлялся за более дешевой нефтью на рынок наличного товара. Новые, не входившие в ОПЕК производители, которые пытались выйти на этот рынок в качестве продавцов, вынуждены были предлагать наиболее „отвечающие рынку“, то есть более низкие цены с тем, чтобы получить определенный удельный вес в его обороте.
ОПЕК была в тяжелом положении. Рынок ставил перед ней крайне неприятный выбор: снизить цены, чтобы вернуть себе рынки, или же сократить нефтедобычу для поддержания цены. Но страны ОПЕК вовсе не хотели снижать цены, опасаясь, что этим они подорвут свою ценовую структуру, утратят огромные экономические и политические завоевания и таким образом сократят недавно приобретенные власть и влияние. Более того, индустриальные страны могли бы воспользоваться снижением цен и повысить акцизные сборы и налоги на продажу бензина и осуществить перевод ренты из казны стран ОПЕК обратно в свою собственную, что означало бы возврат к их сражению за ренту, начавшемуся свыше трех десятилетий назад.
Тем не менее приходилось взглянуть в лицо реальности. Если ОПЕК не собиралась снизить цену, чтобы защитить свой объем нефтедобычи, тогда ей придется сократить объем нефтедобычи, чтобы защитить цены. В марте 1982 года ОПЕК, которая в 1979 году, всего лишь три года назад, производила 31 миллион баррелей в день, установила общий для своих членов лимит в 18 миллионов баррелей в день и квоты для каждой отдельной страны, за исключением Саудовской Аравии, которая должна была регулировать объем нефтедобычи в целях поддержания всей системы. В конечном счете ОПЕК наконец сделала то, о чем она говорила в различные периоды своей истории. Она пошла по пути, выбранному Техасской железнодорожной комиссией – регулирования объема нефтедобычи с целью сохранения цены. Как отметил один из ведущих аналитиков по экспорту нефти, она превратилась в картель, объединение, которое регулирует объем производства и устанавливает цены.
В последовавшие за введением квот месяцы появились новые факторы, повлиявшие на неопределенность нефтяного рынка. Иран одерживал победу в войне с Ираком и становился более воинственным и в своих заявлениях, и в своем отношении к Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива. Это была не единственная война на Ближнем Востоке. В июне 1982 года Израиль вторгся на территорию Ливана. В связи с этим на одном из совещаний Организации арабских стран‑экспортеров нефти (ОАПЕК) велись дебаты о повторном введении эмбарго как „наказания“ Соединенных Штатов. Но угнетенное состояние нефтяного рынка и непосредственный геополитический риск для стран‑экспортеров Персидского залива, вызванный заявлениями Ирана, делали это предложение нереальным, и оно было вскоре отвергнуто как изжившее себя, опасное и несоответствующее интересам самих стран‑экспортеров. Тем временем в июне 1982 года умер король Саудовской Аравии Халид, на троне человек чисто временный и к тому же страдавший сердечной болезнью. Трон унаследовал принц Фахд, который уже был фактическим правителем страны и, помимо всего прочего, решал все нефтяные вопросы.
Предполагалось, что введение квот явится мерой временной. Но к осени 1982 года стало очевидно, что спрос не возвращается на прежний уровень, нефтедобыча за пределами стран ОПЕК растет и наличные цены снова падают. Даже при введении квот, нефти ОПЕК было слишком много и она была слишком дорогой.
„НАША ЦЕНА СЛИШКОМ ВЫСОКА…“
В 1983 году конкуренция на нефтяном рынке быстро нарастала. Один только британский сектор Северного моря, который до 1975 года не был задействован, теперь давал больше, чем Алжир, Ливия и Нигерия, вместе взятые, и в перспективе поток нефти из Северного моря должен был возрасти. В конкурентной борьбе нормой среди стран ОПЕК стали неофициальная дисконтная ставка и снижение цены. Здесь снова единственным исключением была Саудовская Аравия: она поддерживала планку в 34 доллара, которую многие другие чаще нарушали, чем соблюдали. Покупатели, в том числе даже партнеры „Арамко“, покинули Саудовскую Аравию. Им было не так просто принуждать к покупке более дорогой нефти дочерние предприятия и клиентов, которые конкурировали с другими компаниями, имевшими доступ к более дешевой нефти. И саудовская нефтедобыча упала до самого низкого с 1970 года уровня.
В начале 1983 года Ямани выступил с философским исследованием причин ситуации, которая при всей ее очевидности говорила о наступлении кризиса ОПЕК. „Прошу извинить меня за сравнение, – говорил он, – но в истории теперешнего кризиса очень много общего с кризисом забеременевшей жены… Кризис, как и любая нормальная беременность, начался со страсти и радости. В тот момент другие члены ОПЕК хотели, чтобы мы еще выше подняли цену на нефть, несмотря на все наши предостережения, что это приведет к негативным последствиям. Более того, каждый получал огромные доходы и бросался в программы разработки, словно эти финансовые доходы должны были вечно расти… Мы упивались моментами удовольствия“. Но теперь пришлось взглянуть в лицо последствиям. „Наша цена слишком высока по отношению к ценам на мировом рынке“, – заключал Ямани.
К концу февраля 1983 года полный крах, по‑видимому, был близок. „Британская государственная нефтяная компания“ снизила цену североморской нефти на 3 доллара, до 30 долларов за баррель. Это было страшнейшим ударом для Нигерии, члена ОПЕК и страны с 100‑миллионным населением, экономика которой оказалась в опасной сверхзависимости от нефти. Нигерийская нефть конкурировала по качеству с североморской сырой нефтью, и постоянные покупатели Нигерии, которые теперь могли получить более дешевую североморскую нефть, покинули африканскую страну. Лишившись покупателей, Нигерия фактически перестала экспортировать нефть. Внутренняя политика страны, где к власти недавно вернулось гражданское правительство, закачалась. Нигерия дала ясно понять, что она предпримет аналогичные ответные меры. „Мы готовы к ценовой войне“, – твердо заявил нигерийский министр нефтяной промышленности Яхайя Дикко.
В начале марта 1983 года министры нефтяной промышленности и их свита поспешно собрались, как это ни иронично, в Лондоне, столице Великобритании, их главного конкурента из числа стран за пределами ОПЕК. Совещание проходило в отеле „Интерконтинентал“ на Гайд‑Парк‑Корнер, где они провели 12 бесконечных и безрезультатных дней, воспоминание о которых вызывало у многих из них аллергическую реакцию, когда бы в последовавшие годы они ни ступали ногой в этот отель. Но как ни сильна была оппозиция идеологического и символического плана, как ни велики были ярость и растерянность, сопротивляться реальности далее было невозможно – ОПЕК срезала свои цены примерно на 15 процентов – с 34 до 29 долларов за баррель. Это был первый в истории ОПЕК случай, когда она пошла на такой шаг. Экспортеры также договорились об установлении для всей группы квот в размере 17,5 миллиона баррелей в день.
Но кто получит квоты и как они распределятся? Ставкой были миллиарды долларов, и страна за страной вступали в баталии за их распределение. 12‑дневный нефтяной марафон в Лондоне предотвратил резкое падение цен, по крайней мере на настоящее время. ОПЕК пересмотрела и свою цену в соответствии с рыночной ценой, причем не с растущей, как в прошлом, а с падавшей. Она также установила новые квоты, но уже не в качестве временных, как в предыдущем году.
Одна страна, безусловно, не имела вообще никаких официальных квот. Ямани утверждал, что, если бы ей и установили квоту, ее размер был бы намного ниже 6 миллионов баррелей в день, то есть того минимума, который в соответствии с полученными им инструкциями был приемлем для Эр‑Рияда. Так что в коммюнике было записано, что Саудовская Аравия будет „действовать как регулятор колебаний спроса, обеспечивая сбалансированные объемы в соответствии с рыночной конъюнктурой“. Таким образом, на Саудовскую Аравию, располагавшую одной третью всех запасов западного мира, впервые была открыто возложена ответственность за повышение или понижение своей нефтедобычи в целях сохранения сбалансированности рынка и поддержания цены.
Однако новая система регулирования цен ОПЕК зависела от честности ее двенадцати членов и от желания и способности тринадцатой страны, Саудовской Аравии, играть центральную роль производителя‑балансира.
РЫНОК ТОВАРОВ
За очевидными драматическими событиями марафона ОПЕК в Лондоне и превращением ее в картель стояли далеко идущие перемены в нефтяной промышленности. Отныне в ней не будет господства крупных, высоко интегрированных нефтяных компаний: на их место придет открытый для всех оглушительный мир разнообразных и многочисленных покупателей и продавцов. Как говорилось, иногда с одобрением, а иногда с ужасом, нефть становилась „просто одним из товаров“.
Нефть, конечно, всегда была товаром, с ее первых дней коммерческого использования в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия, когда цены в западной Пенсильвании резко менялись. Но одним из результатов постоянного сдвига к интеграции было введение контроля над колебаниями цен в рамки операций компании, „связывавшей“ весь цикл от устья скважины до насоса на бензоколонке. К тому же считалось, что нефть отличается от всех других товаров. И министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии неустанно произносил нараспев: „Следует помнить, что нефть – это не обычный товар, как чай или кофе. Нефть – это товар стратегический. Товар слишком важный, чтобы отдавать его на откуп причудам наличного или фьючерсного рынков или какого‑либо другого вида спекулятивной деятельности“. Но именно это и начало происходить. Одной из причин было накопление на мировом рынке огромных излишков. Существовавшая в семидесятых годах ситуация радикально изменилась: теперь в большей степени приходилось беспокоиться о доступе к рынкам производителям, а не потребителям о доступе к поставкам. Покупатели ожидали скидок, они и думать не хотели об уплате каких‑то надбавок, которые они были вынуждены платить за безопасность в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов, – надбавок, которые, по словам одного представителя нефтяного бизнеса, были „часто слабы как гарантия безопасности и сильны как финансовое бремя“. Безопасность теперь вряд ли уже была проблемой. Теперь важно было стать конкурентоспособным на рынке перенасыщения.
Другой причиной была менявшаяся структура самой нефтяной промышленности. Национализм и погоня за рентой побудили правительства стран‑экспортеров установить собственность на нефтяные ресурсы своих стран, а затем право самим продавать на мировых рынках постоянно возраставший объем своей нефтедобычи. Сделав это, они разорвали связи, привязывавшие их ресурсы к определенным компаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям и рынкам за пределами своих стран. Компании, лишившись прямого доступа к поставкам во многих регионах, обратились к разработке новых источников в других местах. Однако было ясно и то, что им придется найти какие‑то новые формы своей деятельности, иначе, держась за старое, они погибнут. Если им не суждено сохраниться как интегрированным компаниям, они станут покупателями и трейдерами. Таким образом, центр их внимания переместился с рынка долгосрочных контрактов на рынка наличного товара. До конца семидесятых годов на рынки наличноготовара попадало не более 10 процентов всей продававшейся в мире нефти. И это было не более, чем второстепенной операцией, лишь одним из путей поглощения избыточного выхода продукции нефтеперерабатывающих предприятий. К концу 1982 года, после потрясений, вызванных вторым энергетическим кризисом, уже свыше половины продававшейся в мире нефти поступало либо на наличный рынок, либо шло по ценам, соответствующим его ключевым ставкам.
Лишенная другого выбора, первой на этот путь встала „Бритиш петролеум“. В результате иранских событий и национализации в Нигерии она потеряла 40 процентов своих поставок – и это помимо потерь после национализации в Кувейте, Ираке и Ливии. Оказавшись в тяжелейшем положении и пытаясь как‑то защититься, она вышла на наличные рынки и начала покупать и продавать нефть во все большем масштабе. С появлением краткосрочных рынков наличного товара преимущества интеграции „старого стиля“ были уже не так очевидны. Теперь обновленная „Бритиш петролеум“ могла подыскивать самую дешевую нефть, повышать эффективность всех своих операционных механизмов и таким образом выдерживать конкуренцию, проявлять большую, чем прежде, инициативу. К тому же компания стала более децент‑рализированной: ее отдельные подразделения сами отвечали за свою рентабельность. Корпоративная культура семидесятых годов, где доминировал специалист по планированию поставок, сменилась культурой, в которой главными были трейдеры и коммерсанты. Компания, ранее считавшаяся полугосударственной, пошла по пути, как назвал его один из исполнительных директоров „Бритиш петролеум“, „гибкой ориентации на трейдинг“. А как же исторически сложившиеся ценности интеграции? „Определенная интеграция, конечно, вещь хорошая, но это не то, за что мы будем дополнительно платить, – однажды заявил новый президент „Бритиш петролеум“ П.И.Уолтерс. – Мы должны проявлять гораздо большую гибкость“.
Уолтере стал инициатором перемен в „Бритиш петролеум“. Он уже давно пришел к выводу, что традиционная интеграция, все более широко управлявшаяся компьютерными моделями, утратила свой смысл. Это открытие пришло к нему в одно субботнее утро июня 1967 года, через несколько дней после начала „шестидневной войны“. Он косил газон перед своим домом в Хайгейте, в Северном Лондоне, когда его позвали к телефону – с ним хотел срочно переговорить руководитель отдела „Бритиш петролеум“ по фрахтованию. Магнат танкерного флота Аристотель Онассис, сообщил он, внезапно аннулировал все свои чартерные договоренности и предлагает „Бритиш петролеум“ весь свой флот, но по цене в два раза большей, чем она была накануне. Ответ надо дать до полудня. И этот ответ должен был дать Уолтере, который только что был назначен ответственным за материально‑техническое снабжение всех отделений „Бритиш петролеум“. От его решения зависели десятки миллиардов долларов. С упавшим сердцем, он вдруг понял, что сейчас ему не поможет ни одна компьютерная программа – он мог рассчитывать только на свое собственное коммерческое чутье. Он перезвонил заведующему фрахтом. Да, примите предложение, сказал он, и вернулся стричь свой газон. События быстро подтвердили правильность решения: к понедельнику цены на танкеры были в четыре раза выше, чем в пятницу.
С этого дня Уолтере стал активным сторонником отказа от интеграции операций „Бритиши петролеум“. „Этот случай заставил меня думать о всем процессе нашего бизнеса, – сказал он. – Я понял, что защитники сохранения интеграции идут в неправильном направлении. Они поручают машинам то, что должно решаться менеджерами“. Одно время казалось, что пропаганда этих идей будет стоить ему потери должности, но он твердо стоял на своем и к 1981 году стал председателем „Бритиш петролеум“, когда все операции компании переживали полный развал. „Такое множество устоявшихся гипотез о ведении бизнеса рухнули“, – заявил Уолтере. Иранцы частично дезинтегрировали „Бритиш петролеум“, он закончит эту работу. „Я не признаю ни одной стратегии, которая не ведет к рентабельности“, – пояснил он. Уолтере прославился, заявив своим менеджерам, что „в „Бритиш петролеум“ нет священных коров“ и что „вы должны говорить нам, что имеет экономический смысл, а что – нет. А я уже решу, что мы сохраним, а от чего откажемся“. Истинной ценностью теперь стала экономическая необходимость.
Те же силы и в том же направлении толкали и другие компании. И фактически в каждой из них развернулась борьба между теми, кто был воспитан на интегрированной нефтяной отрасли пятидесятых и шестидесятых годов, и теми, кто считал, что пришел новый мир трейдинга. В этой борьбе ставились под сомнение не только установившиеся модели операций, но и принципиальные, глубоко укоренившиеся убеждения. „Концепция, на которой я вырос, заключалась в том, что компания должна пропускать свою нефть через собственную систему очистки и перекачки, – сказал председатель „Шеврона“ Джордж Келлер. – Это было настолько очевидно, что стало трюизмом“. Во многих компаниях против перехода к торговле нефтью как обычным товаром восставали сторонники традиций, видевшие в новом направлении безнравственный и нецелесообразный путь ведения бизнеса – чуть ли не нарушение законов природы. Их приходилось долго убеждать, и они со временем отошли от своих прежних позиций. В большинстве компаний это свелось к утверждению трейдинга как отдельного направления прибыльности, одного из способов делать деньги на собственных условиях, а не просто метода для обеспечения баланса спроса и предложения внутри операций родительской компании. И если во времена напряженности с поставками экспортеры не проявляли лояльности к компаниям, так и теперь, во времена перенасыщения, компании не проявляли ее к экспортерам. Покупатели отыскивали самые дешевые баррели в любом регионе, независимо от того, использовали ли они их сами или снова пускали в продажу – и все это ради того, чтобы сохранить наибольшую конкурентоспособность.
Четыре компании „Арамко“ – „Экссон“, „Мобил“, „Тексако“ и „Шеврон“ – продолжали, хотя и при некотором сокращении, брать огромные объемы нефти в Саудовской Аравии даже по официальной и, следовательно, более высокой цене, чем соответствующие конкурентные сорта. Их основополагающей позицией всегда было – сохранить доступ к саудовской нефти, и они сопротивлялись разрыву сложившихся связей. Но в 1983 и 1984 годах им пришлось, правда, с большой неохотой признать, что такая цена за доступ слишком велика. „Все мы в „Шевроне“ всегда рассматривали „Арамко“ как наше родное предприятие, – сказал Джордж Келлер. – Это то, с чего мы начали, создали и где мы играли ключевую роль. Так что это было более, чем очередной проблемой. Но мы не могли больше бросать деньги на ветер. Нам следовало отказаться и наконец сказать Ямани, что такая ситуация не может продолжаться“. Хотя связи „Арамко“ не были разорваны, они были значительно ослаблены: Саудовская Аравия перестала быть особым поставщиком. И это изменение финансовых отношений между четырьмя компаниями и Саудовской Аравией было одним из самых значительных свидетельств характера перемен, происходивших в нефтяной промышленности.
Переходу к рынку товаров способствовала и серьезная структурная перемена в самой отрасли. С ликвидацией контроля над ценами и всех других его форм Соединенные Штаты уже не были изолированы от мирового нефтяного рынка – теперь они прочно вошли в него. Они были не только самой крупной страной‑потребителем: с сокращением мировой нефтедобычи, на их долю стала приходиться почти четвертая часть производства всего западного мира. К тому же это была нефтедобыча, в огромной степени ориентированная на рынок, и этот факт мог сказаться на всем остальном мире. А одному определенному потоку американской сырой нефти даже предстояло стать новым ориентиром в нефтяной промышленности всего мира.
ОТ ПРОДАЖИ ЯИЦ К ПРОДАЖЕ НЕФТИ
Появление этого нового потока сырой нефти – “Уэст Тексас интермедиат“ – отразило еще одно важнейшее новшество в операциях нефтяной промышленности. Это новшество появилось также в переломном 1983 году, однако не в Вене, Эр‑Рияде или Хьюстоне, а в Нижнем Манхэттене, на восьмом этаже Центра мировой торговли, где Нью‑Йоркская товарная биржа, известная как НИМЕКС, ввела в практику фьючерсный контракт на сырую нефть.
При продаже товара главным образом на наличных рынках, где цены крайне изменчивы и неопределенны, покупатели и продавцы стремятся найти механизм, который сводил бы их риск до минимума. Именно это дало толчок появлению фьючерсных контрактов, которые дают покупателю право купить товар по согласованной цене для его поставки в будущем. При такой сделке покупатель фиксирует определенный уровень цены покупки, он знает, чем он рискует. Точно так же и производитель продает свою продукцию заранее, даже до того, как она произведена или в случае с сельскохозяйственной продукцией до того, как она убрана с полей. Он тоже фиксирует цену. Таким образом, и покупатель, и продавец выступают в качестве хеджеров. Их цель – минимизировать ценовой риск и избежать изменчивости цен. Ликвидность же обеспечивают спекулянты, которые надеются получить прибыль, выбирая удобный момент колебаний спроса и предложения – и психология рынка. Ряд различных товаров, таких, как зерно и свиная грудинка, годами покупались и перепродавались на каждом из фьючерсных рынков в Соединенных Штатах. В семидесятые годы, когда мировая экономика стала более неустойчивой, а государственное регулирование было снято, фьючерсные контракты стали заключаться на золото, процентные ставки, валюту и наконец нефть.
Что касается бирж, то путь, пройденный Нью‑Йоркской товарной биржей, нельзя назвать особенно блестящим. Она была основана в 1872 году, в том же году, когда Джон Д. Рокфеллер пустил в ход „наш план“ монополизации американской нефтяной промышленности и вытеснения конкурентов. У биржи амбиции были более скромные, отражавшие интересы 62 торговцев штата Нью‑Йорк, которые искали место для заключения сделок по молочным продуктам. Первоначально она так и называлась – Масляная и сырная биржа. Вскоре к молочным продуктам добавились яйца, и в 1880 году ее стали называть Масляная, сырная и яичная биржа. Через два года ее название снова изменилось: теперь это была Нью‑Йоркская товарная биржа. К двадцатым годам на ней были введены фьючерсные контракты на яйца, которые, как и сам этот продукт, продавались и покупались.
Затем в 1941 году под своды биржи вошел новый товар – картофель из штата Мэн. Позднее фьючерсы стали заключаться на золотистый лук, яблоки (макинтош и голден), картофель из штата Айдахо, фанеру и платину. Но главной опорой Нью‑Йоркской товарной биржи был картофель Мэна до тех пор, пока по неизвестной для большей части мира причине американский баланс спроса и предложения не начал коренным образом меняться. Картофель Мэна уступал свою долю рынка картофелю из других штатов; более того, его ежегодный абсолютный объем также падал. В результате фьючерсные контракты по поставкам этого картофеля оказались в беде. В 1976 году, а затем в 1979 году в связи с поставками картофеля Мэна разразилось несколько скандалов, вызванных в том числе и отказом нью‑йоркской инспекции допустить к продаже доставленные партии как не отвечающие определенным требованиям. Оказавшаяся в тяжелом положении биржа, которой грозила ликвидация, резко прекратила заключение сделок на этот картофель.
Однако НИМЕКС успела заблаговременно ввести контракты на новый товар, что местные поставщики нашли целесообразным – мазут для обогрева жилых домов. Затем в 1981 году биржа приступила к трейдингу фьючерсами на бензин. Но самое главное нововведение было сделано 30 марта 1983 года. В этот день Нью‑Йоркская товарная биржа ввела фьючерсы на сырую нефть. И это произошло всего через две недели после закрытия совещания стран ОПЕК в отеле „Интер‑континентал“ в Лондоне. В таком непосредственном соседстве по времени была определенная ирония – фьючерсные контракты на сырую нефть решительно подрывали власть ОПЕК в сфере установления цен. И права на отдельно взятый баррель нефти теперь можно было купить и продать множество раз кряду, причем с прибылью порой баснословной, идущей трейдерам и спекулянтам.
Биржевики с восторгом восприняли заключение в Нью‑Йорке фьючерсов на сырую нефть. Отталкивая локтями друг друга, пробираясь в бурлящей от возбуждения толпе, они кричали и яростно размахивали руками, регистрируя свои приказы купить или продать контракты. Так же расталкивая друг друга, трейдеры пробирались и в нефтяную промышленность, которая отнюдь не приветствовала их появление. Первоначальной реакцией утвердившихся нефтяных компаний были скептицизм и открытая враждебность. Какое отношение имели эти кричавшие и яростно жестикулировавшие молодые люди, для которых слово „долгосрочный“ могло означать „два часа“, к промышленности, где вопросы технологии и снабжения были архисложными, где основой всего считались тщательно культивировавшиеся взаимоотношения и где принятые сегодня решения по инвестициям начинали давать отдачу не ранее, чем через десятилетие? Старший исполнительный директор одной из крупных компаний отмахивался от фьючерсных контрактов, считая их „способом дантистов терять свои деньги“. Но практика – фьючерсов, а не стоматологии – быстро распространялась, обретая признание и респектабельность. А через несколько лет большинство нефтяных корпораций и некоторые страны‑экспортеры, а также многие другие игроки, в том числе солидные финансовые дома, уже заключали под сводами НИМЕКС фьючерсные контракты на продажу или покупку партий сырой нефти. При всем наличии ценового риска никто из них не мог позволить себе оставаться в стороне. Так что теперь с астрономическим ростом объема других сделок картофель из штата Мэн стал далеким, странным и неприятным воспоминанием на восьмом этаже Центра мировой торговли.
Когда– то цены на рынке нефти устанавливала „Стандард ойл“. Затем в Соединенных Штатах этим занимался Техасский железнодорожный комитет, а в остальных странах нефтяные монополии. Потом эта власть перешла к ОПЕК. Теперь же цена устанавливалась ежедневно и мгновенно на открытом рынке в торговом зале НИМЕКС при взаимодействии трейдеров с покупателями и продавцами, прилипшими к компьютерным экранам в разных точках Земного шара. Это напоминало нефтяные биржи Западной Пенсильвании конца девятнадцатого столетия, только возрожденные новыми современными технологиями. Все игроки получали одинаковую информацию в один и тот же момент, а в следующий могли действовать на ее основе. „Ниспосланные свыше законы спроса и предложения“ все еще существовали, только теперь они проявлялись по‑другому – гораздо шире и без какого‑либо промедления. Отправной точкой во всех сделках стала цена „УТИ“ – „Уэст Тексас интермидеат“, мощного потока движущегося в трубопроводе продукта, который легко вписывался в процесс трейдинга и поэтому был удобным индикатором для установления мировой цены, которым до этого служила арабская легкая нефть. Два десятилетия назад цены арабской легкой нефти заменила в качестве базовой цены нефти с побережья Мексиканского залива в Техасе. Теперь, совершив почти полный круг, база снова вернулась к Техасу. И с быстрым ростом нефтяных фьючерсов цена „УТИ“ встала в один ряд с ценами на золото, с процентными ставками и с промышленным индексом Доу Джонса среди наиболее жизненно важных и тщательно контролируемого пульса мировой экономики.
НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ ВОЙНЫ
С реструктурированием глобальных рынков нефтяная промышленность также прошла полный круг корпорационной реорганизации, от которой не застрахована ни одна крупная компания. Дерегулирование любой отрасли снимает защиту и увеличивает конкурентное давление и, таким образом, типичным его результатом являются консолидации, „отпочкования“ новых компаний от существовавших, поглощение одной компанией контрольного пакета акций другой и множество других корпорационных изменений. К 1981 году нефть, пройдя в Соединенных Штатах полное дерегулирование, не была исключением. Перепроизводство и снижавшиеся цены также способствовали консолидации и сужению, и это означало повышение эффективности – и прибылей. В то же время институциональные инвесторы – менеджеры пенсионных, ссудно‑сберегатель‑ных и инвестиционных фондов, которые обычно контролировали три четверти акционерного капитала крупнейших американских корпораций – становились все более агрессивными и настаивали на большей отдаче инвестированного капитала. Стремясь показать хорошие показатели квартального роста капитала, они не желали ждать результатов долгосрочных контрактов. В их глазах нефтяная промышленность, переживавшая последствия закончившегося подъема, теряла свою привлекательность. Однако в своей основе, реструктурирование нефтяной промышленности базировалось на так называемом разрыве цен, термина, применявшегося в том случае, когда цена акций компании не отражала полностью рыночную стоимость ее ресурсов нефти и газа. Те компании, у которых был наибольший разрыв между биржевым курсом акций и номинальной стоимостью активов, были наиболее уязвимыми. В таких случаях наиболее очевидной была предпосылка, что новый менеджмент смог бы повысить курс акций и таким образом укрепить такую благородную вещь, как сумма акций их держателей, чего прежний менеджмент не сумел сделать. Был и еще один трюк: покупка активов какой‑то уже существовавшей компании была в 2‑3 раза дешевле, чем увеличение нефтедобычи за счет разведочных работ.
Поэтому для менеджмента компаний было совершенно очевидно, что „искать нефть под сводами Нью‑Йоркской фондовой биржи“, то есть покупать компании с заниженной стоимостью активов дешевле, чем вести разведочные работы в подземной толще Западного Техаса или под морским дном Мексиканского залива. Здесь опять движущей силой была стоимость акций. Многие компании, получив в результате двух нефтяных кризисов огромные потоки наличности, вложили их в разведочные работы в Соединенных Штатах, намереваясь найти надежные альтернативы нефти ОПЕК. Результаты принесли огромное разочарование, резервы по‑прежнему сокращались. Расходование огромных средств оказалось неэффективным и напрасным. Не разумнее ли было бы вместо такого беспорядочного выбрасывания денег на ветер вернуть их большую часть владельцам акций повышением дивидендов или выкупной цены, предоставив акционерам самим решать, как эти средства инвестировать? Или же, что, возможно, было бы даже лучше, приобрести другие компании известной стоимости или слиться с ними и таким образом по дешевке получить нужные ресурсы?
Итак, разрыв цен и неудачи в нефтеразведке ускорили переворот во всей нефтяной промышленности. Результатом его был ряд серьезных корпорационных битв, в которых компания сталкивалась с компанией, причем при участи, а иногда и командовании разнообразных воинов с Уолл‑Стрит. Это был совершенно новый вид нефтяной войны.
ТОЛЧОК
В конце второго энергетического кризиса промышленность уже была готова к изменениям, но для этого необходим был какой‑то толчок. Он нашелся в Амарилло, городке с населением в 150000 человек, расположенном на ровном высоком плато района Панхэндл на северо‑западе Техаса – изолированного, засушливого и продуваемого ветрами района, находящегося ближе к Денверу, чем к Хьюстону. Главным бизнесом в Амарилло была нефте– и газодобыча, но занимались этим главным образом небольшие независимые компании. Другим крупным бизнесом в Амарилло и его окрестностях было мясное животноводство. А также производство ядерного оружия. Амарилло был единственным центром страны, где шел конечный цикл производства атомных бомб – по одним данным, дававший по четыре атомных боеголовки в день. Это был также родной город независимого нефтепромышленника Т.Бу‑на Пикенса. Он более кого‑либо был причастен к взрывам, которые изменили корпоративный нефтяной ландшафт, стерев с лица земли его некоторые наиболее известные достопримечательности.
Бун Пикенс стал своего рода знаменитостью благодаря своему умению, лишь молча ухмыляясь, избавляться от репортеров, когда они со всей серьезностью спрашивали, не является ли он тем самым Дж. Р.Юингом из телевизионного сериала „Даллас“. В финансовых кругах Пикенс вызывал шумное восхищение среди инвесторов, он действовал быстро и энергично и повышал стоимость их акций. В нефтяной промышленности, однако, одни им и восхищались, а другие ненавидели. Заняв стратегически важное положение на пересечении нефтяной отрасли и Уолл‑Стрит, он говорил, что он возвращает нефтяную промышленность к ее основам, борется против потворства бессмысленным расходам, спасает ее от ее эксцессов, иллюзий и высокомерия, действуя в интересах акционеров. Его противники считали, что он всего‑навсего хитрый пройдоха, обладающий даром проталкивать свои идеи и прикрывающий обыкновенную жадность мантией борьбы за права акционеров. Одно было совершенно ясно: Пикенс увидел раньше и с большей четкостью, чем большинство других, все уязвимые места и все слабости нефтяной промышленности, скрывавшиеся за внешней стороной второго энергетического кризиса. И он знал не только как ими воспользоваться, но и выдвинул целую теорию, объяснявшую их появление. На одном уровне проводимая им кампания, а она была таковой, представляла собой месть независимого нефтепромышленника ненавистным крупным корпорациям.
Родившийся в 1928 году, Пикенс вырос неподалеку от бывшей резервации семинолов, в центре нефтедобывающего района, где в двадцатые годы было сделано одно из величайших открытий в Оклахоме. Его отец был агентом по продаже недвижимости – он скупал у фермеров договоры на аренду земельных участков, объединял их и продавал нефтяным компаниям. Его мать заведовала во время Второй мировой войны распределением бензина в трех округах. Он был единственным ребенком, который превратился в дерзкого, самоуверенного молодого человека, независимо мыслящего, острого на язык и откровенно высказывавшего свое мнение. Он не принимал с готовностью установившийся порядок, а скорее старался, чтобы события принимали выгодный ему ход. У него также было огромное желание выдвинуться вперед. Он терпеть не мог проигрывать.
Когда удача повернулась к его отцу спиной, семья переехала в Амарилло, где старший Пикенс нашел работу в компании „Филлипс“. Молодой Бун, пройдя курс геологии в колледже, также начал работать на „Филлипс“. Он ненавидел эту работу. Ему не нравилась царившая в компании бюрократия и строгое соблюдение иерархии. И ему, конечно, не понравилось, когда босс сказал, что „если ты хочешь чего‑то добиться в нашей компании, тебе надо научиться держать язык за зубами“. В 1954 году, проработав три с половиной года в „Филлипс“, он ушел и стал независимым нефтяником, оказывая консалтинговые услуги, заключая сделки по продажам для денежных людей вокруг Амарилло. Затем он отправился на Юго‑запад, где он вел суровую кочевую жизнь в погоне за Американской мечтой. Он привык к раскаленным ветрам и постоянной пыли, которая забивала ему рот и нос. Он брился в туалетах на придорожных бензоколонках с названиями крупных нефтяных компаний – к этому времени у него уже сформировалось порядочное к ним отвращение. В середине пятидесятых годов в годы жалкого существования, во время очередного спада в промышленности, Пикенсбыл одним из тех тысяч людей, которые колесили по нефтяным штатам, пользовались телефонами‑автоматами в качестве своих офисов, искали выгодные сделки и продавали их, сколачивали бригады для бурения скважины и, если повезет, нападали на нефть или газ, – и все это время неотступно мечтали об огромном, настоящем успехе.
Пикенс пошел дальше, чем большинство. Он был неглуп и хитер, обладал аналитическими способностями и умел просчитывать каждый шаг. Прошло какое‑то время, и Пикенс отправился в Нью‑Йорк, чтобы занять деньги, на которые он провел успешную операцию в Канаде. К 1964 году он объединил все свои сделки по бурению в одну компанию – „Меса петролеум“. Когда „Меса“ уже стала известной компанией, у него возник особый интерес к вопросу разрыва между стоимостью акций и стоимостью стоявших за ними нефтяных и газовых активов. Пикенс сосредоточил свое внимание на „спящей“ – зарегистрированной, но не функционировавшей – и значительно большей, чем „Меса“, компании „Хьюготон продакшн“, имевшей обширные резервы газа в юго‑западном районе Техаса Хьюготон, в то время самого большого в стране месторождения природного газа. Цена ее ценных бумаг была намного ниже, чем в случае продажи дали бы ее запасы газа. Акционеров можно было склонить на свою сторону, обещав более высокую цену покупки акций и другие методы управления компанией. Это был тот простой маневр, который окажет такое огромное влияние через полтора десятилетия. В 1969 году он завершил захват „Хьюготона“ и слил это гораздо большее предприятие с „Месой“, создав значительную независимую нефтяную компанию.
Подхваченный практически всеобщей лихорадкой, начавшейся после 1973 года, Пикенс нанял в Соединенных Штатах столько буровых установок, сколько позволяли его средства, и отправился искать нефть в Северном море и в Австралии. Он по‑прежнему оставался заядлым трейдером и специалистом по фьючерсным контрактам задолго до того, как о них слышали в нефтяной промышленности. Вначале это были фьючерсы на поставки мясного скота. Одно время „Меса“ заключала сделки даже по кормам для скота – так незначительная нефтяная компания, занимаясь побочным бизнесом, превратилась во второго крупнейшего в стране поставщика кормов для крупного рогатого скота. Однако это предприятие закончилось неудачей, и Пикенс, сделав поворот на 180 градусов, вывел компанию с кормовых участков. Все же даже в разгаре нефтяных войн в середине восьмидесятых годов, когда ставкой были миллиарды долларов, Пикенс, пролетая в своем самолете над Техасом, смотрел из окна на пастбища и подсчитывал число голов скота, чтобы определить, велики ли стада или нет, и выходить ли на „длинную“ или „короткую“ дистанцию при покупке или продаже фьючерсов на скот. Но теперь это был уже спорт.
Пикенс был заядлым игроком в баскетбол, игры, которая требует скорости, мгновенной реакции, быстрых отрывов, неожиданных бросков и постоянной импровизации. Такие качества были присущи и его бизнесу. „Каждое субботнее утро мы обычно набивались в офис Буна, некоторые из нас сидели даже на полу, – вспоминая семидесятые годы, говорил один из его менеджеров. – И Бун спрашивал, как мы будем делать деньги на следующей неделе“. Пикенс гордился, что он был в Амарилло единственным нефтепромышленником, который работает по субботам. Его стиль работы – планирование действий, внимание к деталям и при этом активная импровизация – делал его жестким соперником для крупных, с бюрократическим управлением компаний, с которыми он имел дело. И он не уклонялся от борьбы. Когда его сотрудники докладывали, что тот или иной конкурент намеревается предпринять что‑то, не отвечающее интересам „Месы“, у Пикенса на это был готов стандартный ответ: „Передайте ему, пусть только попробует!“
К началу восьмидесятых годов Пикенс видел все слабости нефтяного бизнеса. В Соединенных Штатах шло снижение нефтедобычи, перспектив на ее увеличение практически не было, к тому же разведочные работы приносили одно разочарование за другим. В то же время цены акций нефтяных компаний не отражали продажную стоимость их разведанных запасов нефти и природного газа. Это открывало для „Месы“ возможности делать деньги, точно так же, как в случае с „Хьюготон продакшн“.
В 1982 году его первоначальной целью стала „Ситиз сервис“, детище Гарри Догерти, нефтяного магната и владельца коммунальных служб, который в двадцатые годы первым во враждебно настроенной к этому нефтяной промышленности проповедовал преимущества энергосбережения в использовании нефти и природного газа. „Ситиз сервис“ занимала 19‑е место в списке крупнейших в Америке нефтяных компаний и 38‑е в списке крупнейших промышленных корпораций „Форчун‑500“. И она была в три раза больше „Месы“. Но ее акционерный капитал продавался только за одну треть оценочной стоимости ее резервов нефти и газа, что нельзя было назвать хорошим обслуживанием акционеров. „Меса“ приобрела пакет акций этой более крупной компании. Пока она рассматривала планы поглощения, „Ситиз сервис“ выступила с тендерным предложением купить у акционеров акции „Месы“, которая ответила на это контрпредложением. В игру вступил „Галф“, предложив „Ситиз сервис“ почти в два раза большую цену за ее акции, чем они продавались до начала схватки. Но затем вышел из игры. В конечном счете все акции „Ситиз“ приобрела „Оксидентал“ Арманда Хаммера. „Меса“ же на продаже купленного ей ранее пакета акций получила прибыль в 30 миллионов долларов. Это был первый ход.
К этому времени в нефтяной промышленности расширялось реструктурирование и шли очень крупные слияния. Фактически, начало им было положено в 1979 году, когда „Шелл“ поглотила „Белридж“, калифорнийского производителя тяжелой нефти. В начале двадцатых годов „Шелл“ совершила „набег“ на „Белридж“ с предложением купить ее акции на сумму порядка 8 миллионов долларов, но затем отступила. Теперь, в 1979 году, она заплатила больше, в целом 3,6 миллиарда долларов, что в то время явилось крупнейшим корпоративным приобретением. В 1981 году „Коноко“ ушла от попытки захвата со стороны „Канадас доум петролеум“, бросившись в объятия „Дюпона“ за 7,8 миллиарда долларов. „Мобил“ предприняла „набег“ на „Марафон“, бывшую добывающую компанию „Стандард ойл“ и частичного владельца промысла Йейтс, одного из крупнейших в стране месторождений в пермской геологической структуре в Техасе. В поисках альтернативы, „Марафон“ согласилась на продажу за 5,9 миллиарда долларов „Ю Эс стал“, которая искала путь к диверсификации, чтобы избежать катастрофы, постигшей американскую сталелитейную промышленность. „Меса“ сделала заявку на покупку „Дженерал Амери‑кан“, крупного производителя сырой нефти, но „Филлипс“ забрала его за 1,1 миллиарда долларов. Лишившись этой добычи, Пикенс ожидал благоприятного случая. Другой подходящий момент непременно должен был представиться.
МЕКСИКАНСКИЙ УИКЭНД
А тем временем подъем в нефтяной промышленности заканчивался. Разведка нефти в Соединенных Штатах сошла на нет. Подскочило вверх число рефинансирования и банкротств среди небольших компаний. В крупнейших компаниях начался первый раунд затягивания поясов – сокращения служащих, замораживание найма рабочих и ранние уходы на пенсию. Инвесторы, оставив волнения по поводу инфляции, стали покидать нефтяную промышленность и переходить на фондовый рынок; инвестиционные фонды открытого типа и спекулянты становились за ужином более интересной темой дискуссий, чем нефть, программы бурения и геология.
С продолжавшимся спадом деловой активности четко обозначилась прочно установившаяся взаимозависимость нефти и мировой финансовой системы. И нигде это не проявилось с такой очевидностью, как в Мексике, которая к 1982 году имела огромный внешний долг в размере 84 миллиардов долларов, явившийся результатом ее внезапного появления на мировой арене как нефтяной державы. В этот год министром финансов Мексики стал Хесус Сильва Эрсог. Его отец, носивший такое же имя, в 1937 году возглавлял государственную комиссию, которая, изучив финансовое положение и деятельность в Мексике иностранных нефтяных компаний, установила, что они виновны в получении чрезмерной прибыли, что и послужило президенту Карденасу основанием для их национализации. Затем он возглавлял отделение „Пемекса“, государственной нефтяной компании, пост, который он покинул из‑за конфронтации с профсоюзом нефтяников по поводу заработной платы. Его сын пошел по пути современных мексиканских технократов: он закончил магистратуру по экономике в Соединенных Штатах (в Йельском университете), а затем продвигался по служебной лестнице, занимая ряд государственных и административных постов. В апреле 1982 года президент Лопес Портильо назначил его министром финансов.
К своему ужасу, Сильва Эрсог обнаружил, что страна стоит на краю тяжелейшего экономического кризиса. Это был результат падения цены на нефть, высоких процентных ставок, резко завышенного курса песо, безграничных расходов правительства и сокращения рынка мексиканского экспорта других товаров из‑за рецессии в Соединенных Штатах. И плюс ко всему повальное бегство из страны капитала. Сильва Эрсог понимал, что Мексика не в состоянии обслуживать огромный внешний долг. Она не могла платить проценты, не говоря уже о том, чтобы погасить какую‑то его часть. Но президент Лопес Портильо, которому его окружение не уставало повторять, что он самый замечательный в истории Мексики президент, ничего не хотел и слушать. „Это было, – позднее сказал Сильва Эрсог, – страшное время“.
Он начал предпринимать тайные поездки в Вашингтон, покидая Мехико поздно вечером в четверг, чтобы в пятницу встретиться с Полом Волькером, председателем Совета директоров Федеральной резервной системы, и вечером же в пятницу вылетал обратно, чтобы появиться на светских раутах, и никто не догадывался, что его не было в городе. Он договорился о предоставлении Мексике чрезвычайного кредита в размере 900 миллионов долларов, но в связи с бегством капитала он был растрачен в течение недели. 12 августа 1982 года Сильва Эрсог пришел к заключению, что никакие импровизации не помогут: Мекси ка не могла выплатить проценты по займам. Она могла, конечно, пойти на невыполнение условий кредитных соглашений и прекратить платежи, но это было чревато крахом мировой финансовой системы. Задолженность Мексики девяти крупнейшим американским банкам, которые наиболее активно оперировали на денежном рынке, была эквивалентна 44 процентам их общего капитала. Сколько американских и иностранных банков погибнут при первой волне неплатежей и сколько других они разорят при второй? И как сможет Мексика функционировать в рамках мировой экономики?
13 августа Сильва Эрсог снова улетел в Вашингтон. Эти проведенные несколько дней надолго останутся в памяти как „мексиканский уик‑энд“. При первой встрече с министром финансов Дональдом Риганом Сильва Эрсог объяснил, что у Мексики нет иностранной валюты. „Мы должны что‑то предпринять, – сказал он. – В противном случае, последствия будут чрезвычайно серьезными“. „Да, – заметил после обсуждения Риган, – у вас действительно проблема“. – “Нет, господин министр, – возразил Сильва Эрсог, – у нас проблема“.
Мексиканские представители и американцы приступили к работе в пятницу днем и продолжали работать, фактически без перерыва, до рассвета в воскресенье. Они подготовили многомиллиардный пакет займов и кредитов, а также „обусловленные“ закупки мексиканской нефти для Стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов. Но затем, примерно в 3 часа утра в воскресенье, переговоры оказались на грани срыва: Сильва Эрсог обнаружил скрытую в соглашении планку о выплате 100 миллионов долларов за оказание услуги.
„Ну когда кто‑то оказывается в тяжелом положении и вы его выручаете, то за это приходится платить“, – сказал один из американцев. – Сильва Эрсог был взбешен. „Это же не операция по купле‑продаже, – резко заявил он. – Простите, но я не могу с этим согласиться“. Он позвонил Лопесу Портильо, который приказал прекратить обсуждение и немедленно вернуться в Мехико.
В конце этого дня Сильва Эрсог, готовясь к отъезду, сидел в посольстве Мексики и с мрачным видом ел гамбургер, когда из министерства финансов сообщили, что заложенная в соглашении выплата 100 миллионов долларов за предоставление услуги отменена. Американцы не могли пойти на риск и допустить крах банковской системы: кто знал, чем это обернется в понедельник? И на этом мексиканский уик‑энд завершился – первая часть пакета чрезвычайных кредитов стала реальностью.
Охваченный волнением, Сильва Эрсог вылетел обратно в Мехико. Он выступил по телевидению, в течение 45 минут излагая основные тезисы, он не подготовил заранее текст, в котором бы объяснялись происходившие события. А в следующую пятницу он прибыл в Нью‑Йорк для встречи с представителями Федеральной резервной системы и перепуганных банков, чтобы выработать детали реструктурирования мексиканского внешнего долга. Было придумано решение – объявить мораторий на долг. Но слово это никто не произносил – решение назвали пролонгация. Это был вежливый способ сказать, что, по крайней мере, частично Мексика оказалась неспособна выплатить проценты и погасить задолженность.
Измученный вконец, Сильва Эрсог опять полетел в Мексику. С аэродрома он отправился в маленькую горную деревушку неподалеку от Мехико. „Мне надо было отвлечься от всего, через что мы прошли, – позднее сказал он. – Я думал освоем отце и той роли, которую он играл в экспроприации нефти. Тогда мне было всего три года. Потом отец часто рассказывал мне, как это происходило. Это была одна из его любимых тем. И вот теперь уже я был в гуще тяжелейшего с 1938 года кризиса в Мексике, и опять это был кризис, связанный с нефтью. Рассчитывая на нефть, мы совершали страшные ошибки, но в то же время Мексика испытывала такое огромное ощущение победы. Мы переживали самый большой бум в мексиканской истории. И впервые в нашей истории весь этот период с 1978 по 1981 год включительно, за нами ухаживали, добивались нашего расположения самые влиятельные люди в мире. Мы считали, что мы богаты. У нас ведь была нефть“.
В августе 1982 года мировые рынки закачались в ожидании паники, но меры, стремительно и без предварительной подготовки принятые в мексиканский уикэнд и в последующие дни, стабилизировали мировую финансовую систему. Однако драматические события, связанные с мексиканской задолженностью, заставили осознать, что мировой нефтяной бум закончился и что „власть нефти“ не так сильна, как предполагалось. Нефть означала для государства не только богатство, но также и слабость. Более того, близился период перемен. Мировой нефтяной кризис теперь уступал место мировому долговому кризису, и среди многих крупных стран‑должников предстояло оказаться нефтяным державам, которые брали огромные кредиты, рассчитывая, что для их нефти всегда будет существовать рынок и высокая цена.
В то же самое время, когда Мексика балансировала на краю банкротства, крохотный банк с громким названием „Пени скуэр“ в неприметном торговом пригороде Оклахома‑Сити также находился на грани неплатежеспособности. Он чрезвычайно энергично манипулировал кредитами в энергетическом секторе, а о его благоразумии можно было судить хотя бы только по одной привычке его менеджера – он любил пить амаретто с содовой из своих кроссовок фирмы Гуччи. „Пени скуэр“ стал объектом пристального внимания Федерального резервного управления и других контролирующих органов. Почему же так много внимания уделялось какому‑то банку в пригородном торговом центре, и это в то время, когда целая страна – Мексика – находилась на краю пропасти? Дело в том, что „Пени скуэр“ предоставил огромное число кредитов на нефть и газ, многие из которых были крайне сомнительного характера, а затем продал их – некоторые стоимостью в 2 миллиарда долларов – наиболее активно оперирующим на денежных рынках банкам, таким, как „Континентал Иллинойс“, „Бэнк оф Америка“ и „Чейз Манхеттен“. Оставшийся у „Пенне скуэр“ портфель кредитов не имел стоимости, банк был неплатежеспособен и органы банковского надзора его закрыли. Но это был не конец истории.
В общенациональном масштабе самым активным банком, когда речь шла о кредитовании энергетического сектора, был „Континентал Иллинойс“, самый крупный на Среднем Западе и седьмой по величине в стране. В целом это был наиболее быстро растущий кредитор в Соединенных Штатах, он получал награды за успешный менеджмент, а его председатель был назван „банкиром года“. Как кредитор энергетики, „Континентал Иллинойс“, по словам одного из его конкурентов, „съедал наш обед“. Он быстро расширял свою долю на рынке кредитования нефти и газа, так же как и в других секторах. Газета „Уолл‑стрит джор‑нэл“ присвоила ему титул „образцовый банк“. С падением цен на нефть стало ясно, что „Континентал Иллинойс“ с его огромным портфелем кредитов на энергетику от „Пени скуэр“ и других источников ходит по слишком тонкому льду. В результате в 1984 году произошел крупнейший в мировой истории набег. Повсюду в мире другие банки и компании изымали свои деньги. „Континентал Иллинойс“ оказался некредитоспособен. И теперь под ударом оказалась целостность всей взаимосвязанной банковской системы. Пришлось вмешаться Федеральной корпорации страхования депозитов. Она предоставила огромную сумму в 5,5 миллиарда долларов нового капитала, 8 миллиардов долларов в чрезвычайных кредитах и, конечно, новый менеджемент. „Континентал Иллинойс“ был, по крайней мере временно, национализирован, хотя в Соединенных Штатах это слово практически никогда не употреблялось. Однако опасность в случае непринятия таких масштабных мер вызывала слишком большой страх и не позволяла идти на риск.
С крахом „Континентал Иллинойс“ кредитование энергетического сектора мгновенно утратило привлекательность. Те банки, которые еще проявляли желание или были способны давать кредиты энергетическими компаниям, пересмотрели свои правила, так что получить кредит на нефть или газ стало теперь не легче, чем, как говорится в пословице, пролезть через игольное ушко. А без капитала вряд ли можно было рассчитывать на ведение разведочных работ и развитие отрасли, не говоря уже о подъеме.
ГОСПОДИН БУР
Другие драматические события, отзвуки которых еще долго ощущались в нефтяной промышленности, разыгрывались в водах далекой Аляски. Считалось, что половина неразведанных запасов нефти и газа в Соединенных Штатах находится на самой Аляске или в прилегающих водах, и все взгляды устремились в одну точку – Муклук, место, означавшее на языке эскимосов „сапог из тюленьей кожи“. Этот Муклук представлял собой огромную подземную структуру в 14‑ти милях от северного берега Аляски, там, где море Бофорта уступает место Северному Ледовитому океану, и примерно в 65 милях к северо‑западу от богатых запасов на Норт‑Слоуп в заливе Прадхо‑Бей. Во всей нефтяной промышленности Муклук вызвал необычайное волнение. Те компании, которые объединились во главе с дочерней компанией „Бритиш петролеум“ „Сохайо“ и с „Дай‑аманд Шэмрок“ для совместного бурения разведочной скважины, надеялись открыть еще одно чудо – второй Восточный Техас, второй Прадхо‑Бей, а может быть, и такой нефтеносный участок, какие существуют в Саудовской Аравии. Муклук был объявлен самым многообещающим и перспективным проектом, которые случаются один раз в поколение. „Это то, о чем можно только мечтать“, – говорил президент фирмы‑производителя компании „Дайаманд Шэмрок“. А геологи „Бритиш петролеум“ утверждали, что на этот раз бурение разведочной скважины связано с наименьшим риском за все прошлое компании – шансы на успех были один к трем, вместо одного к восьми как обычно. Однако усилия проникнуть в богатства Муклука обещали обойтись дорого – свыше 2 миллиардов долларов. В суровых условиях Арктики приходилось создавать искусственный остров, с которого можно было начать бурение. Такаяработа производилась только в период короткого лета, пока океан не был скован льдами. Зимой температура здесь падала до 80 градусов ниже нуля.
Бурение вели летом и осенью 1983 года, и разведочные работы на Муклуке захватили воображение всей нефтяной промышленности, равно как и финансового сообщества. Акции компаний, участвовавших в работах, подскочили вверх. В случае удачи Муклук должен был изменить все: положение этих компаний, перспективы дальнейших изысканий в Соединенных Штатах, мировой нефтяной баланс, даже отношение индустриального мира к странам‑экспортерам нефти. Но об успехе говорить было еще слишком рано – результат, как сказал величайший в девятнадцатом столетии разведчик недр Джон Гейли, определяет только Господин Бур. И в первой неделе декабря 1983 года Господин Бур заговорил. Его слова разнеслись по всему миру. На глубине 8000 футов ниже морского дна, где, как предполагалось, начинался промышленный пласт, он обнаружил соленую воду. Нефти в Муклуке не было.
О том, что в Муклуке когда‑то была нефть, говорили определенные свидетельства. Но либо в структуре образовался разлом и нефть вытекла на поверхность – этакое гигантское нефтяное пятно, влияние которого на окружающую среду осталось неустановленным, – или же, возможно, региональный наклон вызвал миграцию нефти и она по воле пошутившей природы ушла в структуру залива Прадхо‑Бей. „Мы правильно выбрали место для бурения, – сказал президент „Сохайо“ Ричард Брей. – Просто мы опоздали на 30 миллионов лет“.
Разведочная скважина в Муклуке оказалась не только самой дорогостоящей безрезультативной скважиной в истории, но и поворотным пунктом в ведении разведки нефти в Соединенных Штатах. Эта сухая скважина как бы говорила о том, что в этом плане у Соединенных Штатов нет больших перспектив. И делать такую огромную ставку на разведочные работы было слишком рискованно и слишком дорого. Так что в будущем управленческие структуры, если они снова пойдут на неоправданный риск и понесут такие огромные финансовые потери, должны расплачиваться за свои ошибки. С точки зрения многих главных исполнительных директоров нефтяных компаний, Муклук ясно указывал, что от разведки нефти следует переходить к приобретению доказанных запасов нефти, покупая либо отдельную собственность, либо целиком компании. После Муклука они все начали склоняться к покупке.
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
Реструктурирование нефтяной отрасли подталкивали не только экономика и геология. В нем принимали участие и разные семейные неурядицы: ненависть, обиды и вражда, которые которые существовали в семьях нефтепромышленников и у наследников. Война между наследниками состояния семейства Кек привела к тому, что „Мобил“ приобрела „Сьюпериор ойл“, самую большую независимую компанию в стране, заплатив за нее 5,7 миллиарда долларов. Но самые крупные семейные неприятности свалились на „Гетти ойл“, огромную интегрированную компанию, которую Джей Пол Гетти начал создавать в тридцатые годы и которая в пятидесятые годы с открытиями в Нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом стала международной компанией. Гетти, твердо веривший в американские ценности, умер в 1976 году. Теперь, в восьмидесятые,“Гетти ойл“ не пополняла свои резервы, и ее акции продавались по очень низкой цене по отношению к стоимости ее запасов в недрах. Один из сыновей Дж. Пола Гетти, Гордон, больше интересовался сочинением музыки, чем поисками нефти – он только что закончил работу над циклом песен на поэмы Эмили Дикинсон – но тем не менее такое сильное падение цены акций вызывало у него удивление. Это привело к столкновению с профессиональными менеджерами, управлявшими „Гетти“. Возможно, они и считали, что рычаги власти находятся в их руках, но контроль над акционерным капиталом все же осуществляли Гордон Гетти и его союзники. Дж. П.Гетти не жаловал своих сыновей, в том числе и Гордона, так что у молодого Гетти не было больших оснований быть верным памяти отца или результатам его работы. Так что, когда случай постучался в дверь, он был готов открыть ее.
Как показало дальнейшее развитие событий, таких случаев было два, и Гордон Гетти, не предвидя дальнейших осложнений, откликнулся на оба. Первым было предложение от „Пеннзойл“, крупной независимой компании во главе с нефтяным магнатом Хью Лидтке, одним из ранних партнеров Джорджа Буша в нефтяных делах и другом Буна Пикенса. Гетти в какой‑то степени согласился на предложение „Пеннзойл“, но в какой именно стало центром серьезного и длительного разбирательства. Вторым было предложение „Тексако“, председатель которой одним поздним вечером появился в отеле „Пьер“, ранее принадлежавшим старшему Гетти. Его предложение молодой Гетти принял со всей определенностью. Итак, „Тексако“ получила за 10,2 миллиарда долларов „Гетти ойл“. И, кроме того, иск, выдвинутый „Пеннзойл“.
ГИБЕЛЬ КРУПНОЙ КОМПАНИИ
В эпопее „Тексако“‑“Пеннзойл“‑“Тетти“ Бун Пикенс играл эпизодическую роль, лишь консультируя Гордона Гетти по оценке нефтяной собственности. Он также систематически скупал акции „Тексако“. Но на прицеле у него было кое‑что другое. „Меса“, как почти и вся нефтяная промышленность, испытывала серьезные проблемы. После подъема наступал спад, и „Меса“ задолжала 300 миллионов долларов за программу разведочных работ. У нее работала 51 буровая установка, в том числе 5 очень дорогостоящих в Мексиканском заливе, где была занята целая армия из рабочих, многочисленных судов и вертолетов – и все это пожирало деньги в невероятном размере. В июле 1983 года Пикенс провел заседание правления в Амарилло. „Ребята, – заявил он, – на этом точка. Мы должны сообразить, как нам сделать 300 миллионов, и причем быстро. Мы потеряли в Мексиканском заливе слишком много денег. Дальнейшее бурение здесь не поможет – нам нужна другая зацепка“.
Деньги можно было быстро сделать на нефтяных компаниях, акции которых продавались всего лишь за небольшую часть от стоимости их активов. И взгляд Пикенса остановился на намеченной жертве – компании „Галф ойл“, одной из „Семи сестер“, семи крупнейших нефтяных компаний мира. „Галф ойл“ была создана семьей Меллонов после открытий Гуффи и Гейли в Спиндлтопе в 1901 году и стала непременным атрибутом американской жизни и крупнейшей корпорацией в мире. Она прочно установила свой флаг в Кувейте. Меллоны уже давно отошли от участия в активном менеджменте, семья разрослась, образовалось несколько ветвей и значительная часть ее владений была продана. С точки зрения Пикенса, из всех крупнейших нефтяных компаний „Галф“ была наиболее уязвимой – ее акции продавались по цене, едва превышавшей треть ее оценочной стоимости.
Еще во время схватки за „Ситиз сервис“ Пикенс внимательно присматривался к менеджменту „Галфа“ и пришел к выводу, что он действует нерешительно и неэффективно и что тяжеловесная бюрократическая структура „Галфа“ не сможет своевременно отреагировать на атаку. Внутренние проблемы и глубокие расхождения среди руководства на протяжении 10 лет нанесли компании серьезный урон. Незаконные политические взносы, причем некоторые из них связанные с Уотергейтом, и сомнительные иностранные платежи привели к скандалу в компании, в том числе к устранению некоторых высших управленцев и заменой их менеджерами, у которых незапятнанная репутация была одним из главных качеств.
Новый председатель совета директоров, который возглавил компанию во второй половине семидесятых годов, получил два прозвища – „Мистер Тайд“ и „Бойскаут“. К тому же „Галф“ оказалась, безусловно, единственной крупной компанией, которая ввела в совет директоров монахиню. „Накопившиеся проблемы были результатом шестилетнего периода нерешительности, – вспоминал один из исполнительных директоров „Галфа“. – И все это происходило в решающий момент перемен в нефтяной промышленности – во время споров в ОПЕК, когда на Дальнем Востоке все было подвешено и мы теряли наши позиции в Европе“.
Список бед компании „Галф“ был длинен. В 1975 году была национализирована ее концессия в Кувейте, дававшая существенную часть доходов. Она проиграла дорого обошедшееся ей антитрестовское дело, связанное с продажей урана. Несмотря на огромные суммы, которые с середины семидесятых годов она расходовала на поиски в Соединенных Штатах и в других местах надежной в политическом плане нефти, похвастаться результатами было нельзя. Ее внутренняя база резервов быстро таяла, сократившись на 40 процентов только между 1978 и 1982 годами. Пришлось также отвлечь средства от разведочных работ, чтобы выполнить подписанный несколько лет назад разорительный контракт на поставку природного газа стоимостью в сотни миллионов долларов. С потерей Кувейта позиции „Галфа“ уже не отличались высокой конкурентоспособностью, и она в значительной мере утратила свою прежнюю репутацию транснациональной компании, ведущей в мире масштабные производственные и разведочные работы. И с тех пор никакой новой положительной репутации она не приобрела.
Нынешнее руководство только приступало к решению вопроса о том, как сделать компанию более гибкой, конкурентоспособной и эффективной. Теперь ее возглавлял новый председатель, Джимми Ли, сменивший Мистера Тайда. И если карьера Пикенса говорила об эволюции независимых компаний, то на карьере Джимми Ли можно было проследить эволюцию корпораций. В конце сороковых годов, когда поступила первая нефть из Кувейта, он работал на нефтеперерабатывающем заводе компании в Филадельфии. После этого, в эру бурной экспансии нефти, он делал карьеру за пределами Соединенных Штатов. Он строил нефтеперерабатывающие предприятия и создавал системы сбыта на Филиппинах и в Корее, возглавлял все операции на Дальнем Востоке. В тот период, когда ближневосточные производители боролись друг с другом и давили на компании, требуя повысить у них нефтедобычу, он был человеком „Галфа“ в Кувейте. И, наконец, он руководил из Лондона всеми операциями в Восточном полушарии, и это означало, что он нес ответственность за все, начиная от завоевания верности европейских автомобилистов бензину марки компании до доставки буровых установок в Анголу. И вот сейчас он вернулся в Питтсбург, чтобы перестроить ослабевшую компанию. Но времени на это у него было мало.
В августе 1983 года „Меса“ начала накапливать акции „Галфа“ на „номерных“ банковских счетах по всей стране, трансфертные коды которых были известны только одному‑двум лицам. В октябре она образовала „Галф инвестерс групп“, ГИГ, обеспечив ее партнерами и, таким образом, финансовым влиянием, необходимым для наступления. А в конце этого месяца группа „Месы“ приступила к решительным действиям. Ее цель, говорила она, заставить „Галф“ перевести половину своих американских нефтяных и газовых резервов в лицензионный траст, который будет принадлежать непосредственно акционерам, давая им поток наличных денег и устраняя двойное налогообложение на дивиденды.
„Галф“ ответила контрнаступлением. Целью ее было завоевать 400000 акционеров, которые могли проголосовать либо за нее, либо за Пикенса. Но у „Галфа“ была и еще одна большая проблема: позиции членов ее высшего руководства резко расходились по вопросу о дальнейших действиях, и это мешало принятию ответных мер против Пикенса и показывало ее нерешительность и неповоротливость, что Пикенс ранее и предвидел. Пикенс же проявлял гибкость и быстроту, постоянно импровизируя. Он знал, как подойти к институциональным акционерам, державшим большие пакеты акций „Галфа“. Он также знал, как завоевать общественное мнение. И он был гораздо эффективнее в работе с прессой, чем управлявшие „Галфом“ инженеры. Он выступал под знаменем защитника интересов акционеров как настоящий нефтяник, а не какой‑то безликий бюрократ из „почтенного клуба“ Большой нефти.
„Я никогда не предполагал, что на моем служебном пути мне придется вести борьбу за голоса акционеров, – сказал Ли. – Я никогда к этому не готовился“. Но тем не менее „Галф“ наносила ответные удары и причем достаточно энергично. Ли и его коллеги склонили институциональных инвесторов на свою сторону, и в декабре 1983 года при голосовании по доверенности „Галфу“ удалось вырвать победу, правда, с незначительным перевесом – 52 процента против 48. Но это была всего‑навсего передышка. Пикенс продолжал осаду: он представил в письменном виде предложение передать нефтяные и газовые ресурсы непосредственно акционерам. Правление категорически отказалось обсуждать этот вопрос, и тогда Пикенс отправился в Беверли‑Хиллс в компанию „Дрексел Бернэм“ к королю бросовых облигаций Майклу Милкену, чтобы прощупать возможность получить дополнительные средства и затем выйти с предложением о поглощении.
Джимми Ли знал, что времени у него в обрез. Ему надо было повысить курс акций. Он думал об отделении систем очистки и сбыта, а также химических производств, передав их в отдельные компании. Была и одна хорошая новость: в 1983 году „Галф“ обновила 95 процентов своих резервов. Все же компания была крайне уязвима. В конце января 1984 года Ли позвонил председатель „Арко“ Роберт О. Андерсон, который сказал, что хочет переговорить о вещах, представляющих „материальный интерес“. Они встретилисьза ужином в Денвере, в отдельном зале отеля „Браун палас“, каждый в сопровождении одного коллеги из компании. Андерсон точно знал, что он хочет – все операции „Галфа“ по нефтедобыче за пределами Соединенных Штатов. Его не интересовали ни станции обслуживания, ни нефтеперерабатывающие заводы. Он считал, что будущее крупных нефтяных компаний – это наличие внешних резервов и что их общий успех или провал зависит от того, в какой мере они проникнут, пользуясь его словами, в „международную цепочку“. Он был также убежден, что любой компании придется столкнуться с очень большими трудностями, чтобы прочно занять позиции в мире международной нефти – если она не является одной из „Семи сестер“ и их уже не завоевала. В этом плане „Галф“ обеспечивала бы „Арко“ более легкий и короткий путь. „С потерей Кувейта „Галф“ сильно пострадала, – позднее сказал Андерсон. – Но у них все еще оставалась критическая масса“. За ужином Андерсон сказал, что он готов заплатить 62 доллара за акцию „Галфа“ – полгода назад акции „Галфа“ продавались по 41 доллару. На это Ли предложил слить операции их двух компаний в США, что дало бы „Галфу“ половину исключительно дорогостоящих резервов „Арко“ на Норт‑Слоуп. Андерсон, даже не раздумывая, ответил „нет, спасибо“. Затем Андерсон второй раз позвонил Ли. „Я подумал, что мне следует сказать вам, что прошлым вечером я ужинал в Денвере с Буном Пикенсом, – сообщил он. – Я сказал ему, что мы готовы заплатить 62 доллара за акцию „Галфа“. – „Благодарю вас за это сообщение“, – едва удерживаясь от сарказма, ответил Ли.
Целью встречи было, безусловно, желание Андерсона узнать намерения Пикенса и убедиться, что он не будет блокировать какой‑либо сделки. Но Ли видел в этом и нечто другое. Повесив трубку, он тут же вызвал свою команду, работавшую над решением кризисной ситуации. „Итак, – сказал он, – Боб Андерсон только что выбил из‑под нас стул, на котором мы сидим. Судя по всему, мы фактически уже вступили в игру“.
Второй звонок Андерсона покончил со всеми его надеждами, что „Галф“ выстоит. Ли понимал, что „дело было проиграно“. Среди главных нефтяных компаний издавна существовало неписаное правило воздерживаться от враждебных предложений друг другу. Но предложение Андерсона, последовавшее вслед за недавним набегом „Мобила“ на „Марафон“, давало ясно понять, что оно больше не действует, и главные компании располагают огромными финансовыми ресурсами, позволяющими им идти друг против друга. И теперь за голову „Галфа“ была назначена цена, об этом вскоре станет известно, и компанию непременно кто‑то купит. Единственный вопрос заключался в том, кто именно. При таких обстоятельствах Ли решил добиваться наибольшей цены. Он позвонил главным директорам других крупных компаний. Это была крайне неприятная задача, но созданная Андерсоном ситуация не оставляла ему выбора. Смысл сообщения, доведенного до каждого директора, был примерно таков: мы – в тяжелом положении. Имеются данные, что на нас готовится набег. Если вы заинтересованы, начинайте готовить свои финансовые расчеты.
Пикенс разыграл свою следующую карту, сделав тендерное предложение акционерам купить у них акции по 65 долларов против 62, предложенных „Арко“. „Я знал, что 65 долларов – это самая низкая цена, – сказал Ли. – Если кто‑то хочет заполучить компанию, почему бы не взять за нее как можно боль ше“. Он снова обратился к директорам других компаний. На этот раз он был откровенен – „Галф“ продается.
Среди тех, кому он позвонил, был и Джордж Келлер, председатель правления „Шеврона“, который уже проявлял интерес к покупке Талера“. „Шеврон“, образовавшаяся на основе западных операций „Стандард ойл траст“, сохраняла свою штаб‑квартиру в Сан‑Франциско, вдали от предприятий нефтяной промышленности, в не очень подходящем месте для крупной нефтяной компании. Компания пользовалась прекрасной репутацией: она не боялась идти на риск и находила нефть, в том числе, конечно, в тридцатые годы в Саудовской Аравии. Келлер ранее осуждал практику поглощения одной компании другой, по крайней мере, если это были враждебные поглощения. Компании, ранее говорил он, могли бы с большим успехом расходовать свои средства на поиски новых ресурсов. Но как и другие высшие руководители в нефтяной промышленности, Келлер был потрясен огромными масштабами провала операций в Муклуке. „После этого, – сказал он, – практически каждый решил вкладывать деньги уже в более реальные возможности“.
В канун нового, 1984 года председатель „Гетти ойл“, позвонив Келлеру, спросил, не хотела бы „Шеврон“ взглянуть на „Гетти“ (которая в тот период боролась против поглощения). Вернувшись в Сан‑Франциско, Келлер немедленно поручил своей аналитической группе выяснить, настолько велики у „Гетти“ шансы выстоять, а заодно и у других компаний, таких, как „Сьюпе‑риор“, „Юнокал“, „Сан“ и – „Галф“. „Гетти“ скоро ушла, приобретенная „Тек‑сако“, но „Шеврон“ продолжала внимательно присматриваться к „Галфу“. После второго звонка Ли Келлер засадил сотрудников „Шеврона“ в ударном порядке готовить на основании всех опубликованных данных и предоставленных „Галфом“ материалах срочное подписание соглашения о конфиденциальности. Имея в своем распоряжении едва ли неделю для определения стоимости одной из крупнейших в мире компаний, „Шеврон“ бешено принялась за работу. 29 февраля „Шеврон“ получила одну оценку, 2 марта – другую, в 4 часа дня 3 марта – уже третью. При самых пессимистических расчетах „Галф“ стоила 62 доллара за акцию, при самых оптимистических – 105 долларов – то есть где‑то от 12,2 до 17,3 миллиарда долларов. „Это чертовски огромный разброс“, – воскликнул Келлер. Первоначально правление приняло рекомендацию менеджмента и уполномочило Келлера, делая предложение, поднять цену акции до 78 долларов, хорошо понимая, что фактическая цена может зависеть от разброса цен покупателя и продавца. Кто‑то из членов правления предложил вообще не устанавливать предел и оставить это на усмотрение Келлера. „Ради бога, установите потолок, – просил Келлер, нервничая при одной только мысли о единоличной ответственности. – Каждый доллар на акцию – это лишние 135 миллионов“.
5 марта правление „Галфа“ собралось в своей питтсбургской штаб‑квартире, нарядном здании, построенном во времена Великой депрессии. Здание было фактически пустым: большинство операций велось из Хьюстона, и группе „Шеврона“ предоставили целый этаж. Правление „Галфа“, безусловно, не было намерено сдаться на предложение бросовых облигаций Пикенса. На столе у него лежали три других предложения. Одно – от „Шеврона“. Некоторые исполнительные директора выступили с альтернативными предложениями – выкуп менеджментом контрольного пакета за счет кредитов, с использованием высокодоходных, но ненадежных „бросовых“ ценных бумаг, которой будет организован фирмой „Колберг, Крэйвис и Роберте“. Было предложение и от „Арко“. Итак, правлению предстояло рассмотреть три заслуживающих внимания предложения. Ли изложил покупателям порядок выдвижения предложений. „Каждый из вас вносит свое предложение только один раз. Повторное предложение не принимается.“ Президент „Арко“ Уильям Кишник выступил первым, предложив 72 доллара за акцию. Фирма „Колберг‑Кравис“ была следующей – 87,50 доллара, из них 56 процентов, то есть 48,75 наличными. Остальное 38,75 вновь выпущенными ценными бумагами.
Ожидая своей очереди, представитель „Шеврона“ Келлер держал наготове письмо с предложением, где был один‑единственный пропуск – там не была проставлена цена. Он знал, что он рискует в двух случаях: снижения цен на сырую нефть или повышения процентных ставок, но вряд ли, думал он, и то, и другое произойдет одновременно. Правление „Шеврона“ настояло, что окончательное предложение будет зависеть только от него. Келлер прокручивал в уме разные варианты, хорошо зная, что каждый дополнительный доллар за акцию добавляет к его предложению 135 миллионов. Но он не хотел и упустить „Галф“: другой такой случай вряд ли снова представится. Он взял ручку и проставил цену – 80 долларов за акцию. Теперь предложение составляло 13,2 миллиарда долларов с полной оплатой наличными. Он представил письмо правлению „Галфа“ и постарался как можно убедительнее обосновать свою позицию. За четыре десятилетия работы в „Шевроне“ ему никогда прежде не приходилось находиться в таком положении. Предложение было встречено холодно.
В состоянии полной неизвестности Келлер вернулся на этаж „Шеврона“ ожидать решение. Он был уверен лишь в одном – он только что сделал самое большое в истории предложение расплатиться наличными. Президент „Арко“ Кишник тоже ждал. Роберт О. Андерсон, проведя совещание правления „Арко“ в Далласе, и другие директора занимались текущими делами, но и они с волнением ждали и не занимали телефонную линию с Питтсбургом, лишь изредка переговариваясь с Кишником.
В этот день правление „Галфа“ заседало в общей сложности семь часов. Оно обсуждало три предложения. Предложение „Арко“ можно было без долгих размышлений не принимать в расчет: их цена была слишком мала. Предложение фирмы „Колберг‑Кравис“ отбросить было нельзя. Теоретически, оно давало больше денег, но было и более рискованным, поскольку половина суммы выплачивалась ценными бумагами, и финансовые советники „Галфа“ – из компании „Меррилл Линч и Салломен бразерс“ – никак не могли определить реальную стоимость бумаг. Его огромное преимущество заключалось в том, что теперешний менеджмент останется на своих местах, но некоторые „внешние“ директора беспокоились, что его принятие именно по этой причине может вызвать нарекания, что правление исходит из своих собственных интересов. Более того, фирма не представила финансовых гарантий. „Если она не справится с финансированием, – сказал Ли, – то Бун, сохраняя свое тендерное предложение, будет смотреть нам в рот, вырывая больше акций, чем ему необходимо“, чтобы возобновить попытку поглощения.
Время шло. Келлер все еще ждал, думая о своем рискованном предложении, когда зазвонил телефон. Это был Джимми Ли. В его голосе звучало деланное равнодушие. „Привет, Джордж, – сказал он. Наступила пауза. – Вы только что купили себе нефтяную компанию“.
У Келлера лихорадочно мелькнула мысль, что он чувствует себя как тот человек, который впервые в своей жизни сделал предложение о покупке дома и затем, к своему удивлению, обнаружил, что дом этот теперь ему принадлежит. Это был „дом“ стоимостью в 13,2 миллиарда долларов. Правление „Галфа“ решило, что самым благоразумным было принять предложение „Шеврона“, с выплатой всей суммы наличными. Акционеры окажутся в лучшем положении. И это был конец компании „Галф ойл“. Спиндлтоп, Гуффи и Гейли, семья Мелло‑нов, Кувейт и майор Холмс – все это было позади. Это уже была история.
Андерсон отнесся к проигрышу „Арко“ философски. Он просто никак не мог предположить, что „Шеврон“ пойдет на повышение до 80 долларов. Его абсолютный лимит был 75 долларов. „Мы считали, что зависнем где‑то на примерно одинаковой цене, – сказал он. – Но уж если проигрывать, то гораздо легче при большей разнице цен. Крайне неприятно оказаться в проигрыше, когда разница составляет один доллар на акцию“.
Что касается Пикенса, то он считал, что это была великая победа для акционеров: в результате его усилий неэффективный менеджмент был лишен возможности по‑прежнему выбрасывать деньги на ветер в тщеславной погоне за славой. За прошедшие с начала его кампании месяцы цена акции „Галфа“ поднялась с 41 до 80 долларов, а суммарная рыночная капитализация возросла с 6,8 до 13,2 миллиарда долларов, давая акционерам „Галфа“ прибыль в 6,5 миллиарда. „Эти 6,5 миллиарда долларов никогда бы не были сделаны, если бы на арене не появилась „Меса“ и ГИГ“, – сказал Пикенс. Права акционеров восторжествовали. Гнался ли Пикенс за быстрой прибылью или же он лелеял мечту стать менеджером высшего ранга в крупной международной компании, но его „Галф инвестерс групп“ получила 760 миллионов долларов прибыли, из которой 500 миллионов отошли „Месе“. После вычета налогов это составило как раз те самые 300 миллионов, которые „Меса“ так отчаянно стремилась получить летом 1983 года. Как говорил Пикенс, эти деньги были „Месе“ страшно нужны.
У Джимми Ли первой реакцией было чувство огромного облегчения. Все закончилось, и правление проголосовало единогласно, что намного уменьшало вероятность обращения акционеров в суд. Он сразу же отправился в поездку по стране, чтобы встретиться со служащими компании и поддержать их уверенность в будущем. А затем усталость взяла свое. Навалилось уныние, иногда доводившее его чуть ли не до слез. „Я никогда и подумать не мог, что „Галф“ перестанет существовать, – сказал он однажды. – Это была вся моя жизнь, вся моя карьера. Мысль о том, что его больше нет, меня просто не покидает“.
„Галф“ слился с „Шевроном“, и у Джорджа Келлера никогда не было основания сожалеть о 80 долларах, сумме, которую он проставил в последний момент. „Шеврон“ заплатила за компанию отнюдь не завышенную цену. „Это была удачная покупка, – сказал Келлер несколько лет спустя. – Мы приобрели активы такого масштаба, в каком они прежде никогда не выставлялись на продажу“. Тогда почему же компания „Галф“ оказалась в беде? „Она пренебрегла своим положением, которое было достаточно прочным, – ответил Келлер. – Она решила, что ей нужно одно великое и огромное чудо. Это было все равно, что отправиться играть в Лас‑Вегас, вместо того, чтобы строить свое будущее в городе, где ты живешь. И она проиграла и там, и там“. Это, конечно, могло случиться с любой крупной нефтяной компанией в той лихорадочной атмосфере, что установилась после нефтяных потрясений семидесятых годов. Но компания „Галф“ заплатила максимальную цену.
АКЦИОНЕРЫ
Тем не менее Пикенс все еще не угомонился: одно за другим он сделал предложения купить акции „Филлипса“, правление которого находилось в Бартлсви‑ле, в штате Оклахома, и „Юникал“ из Лос‑Анджелеса. Что касается „Филлипса“, то за Пикенсом вплотную следовал крайне активный финансист с Уоллстрит Карл Икан, который уже прибрал к рукам „Транс уорлд эрлайнс“. Обе компании, однако, устояли, отразив силами своих правлений попытки поглощения. Они залезли в долги, что позволило им произвести обратную покупку акций по гораздо большей цене, чем до нападения, и увеличить таким образом выплаты акционерам. Однако в обоих случаях „Меса“ получила значительную прибыль. Все же громкие требования заботиться о стоимости акций, по‑видимому, теряли популистскую привлекательность у их держателей. После того, как „Юнокал“ вышла из схватки целой, ее председателю правления Фреду Хартли позвонил Арманд Хаммер из компании „Оксидентал“. Хаммер поздравил Хартли с победой, сказав, что он заслуживает Нобелевской премии за доблесть. Даже такая крупная интегрированная компания как „Арко“ понимала, что в финансовой атмосфере середины восьмидесятых годов и она также может оказаться объектом нападения или очередного Пикенса или его самого. „Мы были легкой добычей, – сказал Роберт О. Андерсон, – пока не подтянули курс наших акций более плотно к стоимости нашей компании“. Так „Арко“ провела своего рода самоприобретение, выкупив на заемные средства свои акции по более высокой цене и одновременно резко консолидировав свои операции и сократив численность служащих.
В следующие несколько лет реструктурирование путем слияний и приобретений даже среди гигантов нефтяной промышленности продолжалось. „Ройал Датч/Шелл“ заплатила 5,7 миллиарда долларов за 31 процент „Шелл ойл Ю‑Эс‑Эй“, которая ей раньше не принадлежала. Для главных исполнительных директоров в Гааге и Лондоне это представлялось наилучшим вариантом из всех доступных им инвестиционных возможностей. „Бритиш петролеум“ уже работала совместно с „Стандард ойл оф Огайо“ – первоначально созданной Джоном Д. Рокфеллером и явившейся основой его „Стандард ойл траст“ – чтобы обеспечивать себе возможности перекачки аляскинской нефти в Соединенных Штатах. В результате аляскинской сделки „Бритиш петролеум“ получила 53 процента „Сохайо“, а сама „Сохайо“ стала ее отделением в Америке. Но вялая и чрезвычайно дорогая программа поисковых работ, проводившаяся „Сохайо“, а также фиаско в Муклуке вызвали у „Бритиш петролеум“ недовольство ее менеджментом, и она, выплатив другим акционерам свыше 7,6 миллиарда долларов, полностью приобрела эту компанию и таким образом получила полный контроль над огромным потоком средств с Аляски. В обстановке слияний и приобретений не привлекала к себе особого внимания, по крайней мере до начала девяностых годов, лишь одна компания. Это была „Экссон“, которая в семидесятые годы сильно погорела, сделав ряд неудачных приобретений. Два из них даже попали в список из пяти самых неудачных, который опубликовала „Форчун“. Миллиард долларов напрасно потраченных за два года на программу разработки битуминозных сланцев в Колорадо также подействовал на нее отрезвляюще. „Экссон“ пришла к выводу, что она не может адекватно расходовать весь свой поток наличных средств на поисковые работы и приобретения или на новые виды деятельности, не связанные с нефтью. Более того, руководители „Экссона“ считали, что, следуя своим политическим установкам и чуть ли не своему кредо, компания не может поглощать другие крупные нефтяные компании. У „Экссона“, как заметил ее председатель правления Клифтон Гарвин, была „фобия приобретений“.
Все это резко сокращало возможности компании. „У нас был большой поток наличных денег и не так много хороших инвестиционных проектов, в которые их вложить“, – пояснил Гарвин. Целесообразнее было вернуть акционерам те деньги, которые она была не в состоянии эффективно вложить, и предоставить им возможность делать с ними все, что они захотят. Так „Экссон“ и поступила, произведя между 1983 и серединой 1990 годов скупку, на которую было затрачено 16 миллиардов долларов. Это гарантировало акционерам повышение курса акций и хорошую прибыль, а также создавало уверенность, что ни Бун Пикенс, ни кто‑либо еще не смогут утверждать, что акционеры „Экссона“ находятся в невыгодном положении. Эта сумма в 16 миллиардов намного превышала плату „Тексако“ за „Гетти“ или даже „Шеврона“ за „Галф“. „Экссон“ действительно расходовала огромные деньги на приобретения, возможно, миллиард долларов в год, но ее интересовали не все компании целиком, а их специфические особенности, и она продолжала спокойно работать, избегая всякой, в том числе и газетной, шумихи. Она также сократила на 40 процентов число своих служащих. В результате это была уже меньшая компания как в абсолютном, так и в относительном выражении по своим ресурсам и доходам по сравнению со своим историческим конкурентом и архисоперником „Ройал Датч/Шелл“. Маркус Сэмюель и Генри Детердинг могли бы ею гордиться.
В целом, реструктурирование означало переход к меньшей по размаху и более консолидированной нефтяной промышленности. Начинающих геологов больше не нанимали на работу с окладом в 50 тысяч долларов в год, по сути дела, их не нанимали вообще. Другие же, по‑видимому, достигшие вершины своей карьеры, внезапно обнаружили, что их вынуждают подать в отставку ранее положенного срока. Больше всех пострадали те, чьи должности были сокращены. „Я считал, что я работаю для надежного социального института, – сказал один из директоров, чья должность была ликвидирована после приобретения 'Тал‑фа“ „Шевроном“. – Все 25 лет своей жизни, что я отдавал работе, при всех издержках, которые выпадали на долю моей семьи, я никогда не считал, что работаю ради клочков бумаги“. Колоссально выиграли от реструктурировании в нефтяной промышленности акционеры. В результате всех действий – крупных слияний и приобретений, рекапитализаций, скупки акций – в карманы институциональных и индивидуальных инвесторов, пенсионных фондов, арбитражеров и т. п. было направлено намногим больше 100 миллиардов долларов. В конечном счете акционеры действительно выиграли.
Выиграли и менеджеры, если они были акционерами. Председатель правления „Галфа“ Джимми Ли потерял работу, но получил около 11 миллионов долларов при опционных сделках. Но Буна Пикенса никто не мог превзойти. В 1985 году благодарное правление „Месы“ в Амарилло проголосовало за выделение Пикенсу 18,6 миллиона долларов отсроченной премии за маневры по захвату „Галфа“, принесшие „Месе“ чистыми около 300 миллионов долларов. В тот год Пикенс был самым высокооплачиваемым корпоративным исполнительным директором в Америке.
НОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
В мае 1985 года лидеры „семерки“ – семи наиболее развитых стран Запада – встретились на своем ежегодном экономическом саммите, на этот раз в Бонне. Темами обсуждения были: принципы развития свободного рынка, дерегуляция и приватизация. В Америке с огромным преимуществом только что на второй срок был избран Рональд Рейган, пообещавший стране „эру национального возрождения“. При его администрации завершился столь характерный для семидесятых годов период пораженческих и пессимистических настроений, что было в значительной степени и прямым, и косвенным результатом нефтяного кризиса. В Америке инфляцию и спад сменили экономическая активность и бум. В свою очередь значительно продвинулась на пути к переустройству британского общества и Маргарет Тэтчер. Бизнес, упорная работа и рабочие совещания за завтраком обрели положительный статус в тэтчеровской Великобритании. Даже Франсуа Миттеран, президент‑социалист Франции и самый выдающийся долгожитель в мировой политике, отказался от государственного регулирования и классического французского этатизма в пользу свободного рынка. Западный мир переживал третий год относительно оживленного экономического роста. Но на этот раз экономическое возрождение радикально отличалось от прежних периодов послевоенного подъема: его не питал рост спроса на нефть. Экономики индустриальных стран быстро адаптировались к высоким ценам на нефть и ее потребление было вялым.
В энергетике единственной серьезной проблемой, которую в предыдущие несколько лет приходилось решать лидерам „семерки“, были вызывавшие серьезные разногласия планы западных европейцев значительно увеличить покупки советского газа. Европейцы предполагали использовать их в программах диверсификации в энергетическом секторе, чтобы сократить свою зависимость от нефти. Они также надеялись повысить занятость в машиностроении и сталелитейной промышленности. Администрация Рейгана была против этого проекта, опасаясь, что расширение импорта газа создаст Советскому Союзу рычаги для политического давления на Европу. Кроме того, она не хотела, чтобы Россия получала дополнительные доходы в твердой валюте, что укрепляло бы ее экономику и военный потенциал. С нарастанием разногласий вокруг этой сделки, Вашингтон наложил запрет на экспорт американского оборудования для этого проекта, а затем попытался запретить и экспорт европейского оборудования, созданного на основе американских технологий.
Такое посягательство на право экстерриториальности вызвало бурю. Результатом был острейший с времен „октябрьской войны“ и эмбарго в 1973 году европейско‑американский конфликт. На карту были поставлены два различных подхода к вопросам безопасности: стремление европейцев увеличить число рабочих мест и обеспечить стабильность экономики и убежденность американцев в существовании советской угрозы. Эмбарго американцев угрожало безработицей ряду отраслей европейской промышленности. Это было настолько сильным ударом для крупнейшей британской машиностроительной компании „Джон Браун“, что Маргарет Тэтчер лично позвонила Рейгану. „Джон Браун погибает, Рон“, – сказала она. Чтобы придать вес своей позиции, она даже вылетела в Шотландию и присутствовала на церемонии по случаю начала поставок компанией „Джон Браун“ оборудования для сделки по газу – тем самым открыто выражая протест против американского запрета.
После многочисленных гневных заявлений и обвинений наконец был достигнут компромисс: ограничение европейского импорта из Советского Союза до 30 процентов всех поставок природного газа, и ускоренное развитие огромного норвежского месторождения „Тролль“ как альтернативного источника природного газа в рамках Североатлантического альянса. На этом споры по поводу газопровода закончились, и западные лидеры смогли отложить в сторону вопросы безопасности в энергетическом секторе.
Так что теперь, в 1985 году, вопросы повестки дня на экономическом саммите в Бонне показывали, как изменился мир. Они главным образом касались проблем торговых отношений между промышленными странами – протекционизма, положения доллара, отношения к экономической экспансии Японии. Это были вопросы в рамках „Запад‑Запад“. Нефть и энергетика, главнейший вопрос в отношениях „Север‑Юг“, вообще не обсуждался. Как и в шестидесятые годы, нефть и энергоносители были доступны в изобилии и, следовательно, не сдерживали экономический рост. Поставки снова стали надежными. Избыточный мировой объем нефтедобычи превышал ежедневный спрос на 10 миллионов баррелей, что было эквивалентно 20 процентам потребления западного мира. Кроме того, Соединенные Штаты, Германия и Япония закладывали значительные объемы нефти в свои стратегические резервы. „Резервная безопасность“, которой не существовало на всем протяжении семидесятых годов, теперь восстанавливалась.
Тем временем, на Ближнем Востоке в продолжавшемся военном конфликте Иран и Ирак нарушали все принятые табу. Разрушались не только города, но и нефтеперерабатывающие предприятия, наносились удары по нефтепромыслам и танкерам, в том числе ходившим под флагами многих других стран. В прежнее время бомбардировка танкера, несомненно, вызвала бы скачок цен, теперь же независимо от нападения на судна цены на наличных и фьючерсных рынках то поднимались, то опускались. Короче говоря, не было необходимости включать вопросы энергетики в то ограниченное число главных проблем, на которых западные лидеры как главы государств могли бы сосредоточить свое внимание. На прежних саммитах нефть была часто доминирующим и самым щекотливым вопросом. Но теперь, в 1985 году, впервые с того времени, как десять лет назад такие саммиты начали проводиться, западные лидеры подписали коммюнике, в котором о нефти и энергоносителях упоминаний не было.
Само отсутствие этого вопроса было убедительнейшим свидетельством того, насколько перестроилась мировая экономика, сделав выводы после экономических и политических потрясений семидесятых годов, в которых главную роль играла нефть. Теперь нефть, по‑видимому, не требовала какого‑то особого отношения к себе: она действительно стала просто одним из товаров. Первый фактор, который определял энергичный экономический рост в шестидесятые годы – надежные поставки нефти – по‑видимому, вновь обретал свое место. Второй фактор, однако, все еще отсутствовал. Нефть все еще не была дешевой – пока еще
В середине восьмидесятых годов цена на нефть балансировала на краю пропасти. На карту было поставлено столь многое, что все взгляды были прикованы к каждому ее малейшему колебанию. Как в 1984 году отметил президент „Эссо Юроп“, „сегодня цена на нефть – это главная переменная величина в равновесии двух важнейших факторов и самый большой из всех источник неопределенности будущего“. Начнет ли цена снова подниматься, будет ли медленно опускаться или же резко упадет? Шли месяцы, и во всем мире – не только в энергетических компаниях, но и в финансовых учреждениях и коридорах государственной власти – все чаще задавались вопросом „как низко она упадет“, и для этого были веские основания. От ответа на этот вопрос в огромной мере, конечно, зависело положение нефтяных компаний. Но не только. Он определит будущую реальность „власти нефти“ в мировой политике и в огромной мере скажется на экономических перспективах и менявшемся балансе сил экономики и политики во всем мире. Высокие цены будут выгодны экспортерам, начиная от Саудовской Аравии и вплоть до Ливии, Мексики и Советского Союза. СССР также зависел от продажи нефти, равно как и природного газа, поскольку твердая валюта, которую он расходовал на покупку западных технологий, была крайне необходима ему для модернизации своей экономики. Низкие цены благоприятствовали бы странам‑импортерам нефти, в том числе двум таким центрам экономической активности, как Германия и Япония. В середине, в состоянии неопределенности, стояли Соединенные Штаты. У них были интересы по обе стороны водораздела. США были крупнейшим в мире импортером и потребителем нефти, но, кроме того, и вторым в мире ее производителем, и добрая часть их финансовой системы была завязана на высокие цены на нефть. Если дело дойдет до крайности, на какую сторону они встанут?
Глава 36. Хорошая встряска: как низко может упасть цена?
Несмотря на принятие ОПЕК еще более ограничительных мер, в 1984 году система ее новых квот не работала. Нефтедобыча за пределами стран ОПЕК росла; уголь, атомная энергетика и природный газ продолжали вытеснять нефть с рынка; энергосбережение сокращало спрос. Доходы стран‑экспортеров ОПЕК сокращались, и манипуляции с квотами среди них становились все более очевидными. Если не удавалось осуществить амбициозные планы получения высоких доходов с помощью цены, то они снизят ее и возместят утраченные доходы за счет объема. В порыве раздражения ОПЕК наняла для контроля над выполнением квот международную бухгалтерскую фирму. Бухгалтерам был обещан доступ к каждому документу с деталями сделки, к каждому счету, к каждому коносаменту. Но обещанного доступа они не получили, по сути дела, у них были огромные трудности даже со въездом в некоторые страны ОПЕК, не говоря уже о посещении ключевых производств. Тем временем некоторые экспортеры, чтобы обойти установленные для них квоты и вялость в торговле нефтью, обратились к бартеру и встречной торговле, когда оплата поставок нефти производилась другими товарами – оружием, самолетами и промышленными товарами, что в итоге увеличивало избыточный объем нефти на мировом рынке.
ВЫСОКАЯ ИЛИ НИЗКАЯ?
Сопротивляться силе рынка было не так‑то просто. Лейбористское правительство Великобритании, учредив в семидесятые годы государственную „Британскую национальную нефтяную корпорацию“, сделало ее не только хранителем государственной доли резервов нефти и газа в Северном море, но и придало ей специфические торговые функции. Она должна была покупать до 1,3 миллиона баррелей в день североморской нефтедобычи и затем продавать переработчикам. Таким образом, БНОК, объявляя цены, по которым она будут покупать и продавать нефть, играла важную роль в определении цен на мировом рынке. Но с ослаблением цен, БНОК оказалась в сложном положении, покупая свыше миллиона баррелей у североморских нефтедобытчиков по одной цене и вынужденно продавая эти же баррели по другой, более низкой цене! Результатом явились значительные потери для БНОК и для британского казначейства. Как с готовностью разъяснил один чиновник из Уайтхолла, „можете быть уверены, что существование в государственном секторе организации, которая покупает нефть по 28,65 доллара за баррель и продает ее по более низкой цене, в высшей степени неприятный и крайне болезненный вопрос для казначейства!“ Никто не относился к такому положению столь критически, как сама Маргарет Тэтчер. Она, как правило, не жаловала государственные компании – и если уж на то пошло, была даже большим сторонником „свободных рынков“ и противником государственного регулирования, чем Рональд Рейган. Приватизация государственных предприятий была одним из главных пунктов в ее предвыборной политической платформе. Она не видела особой роли, которую бы играла БНОК в обеспечении безопасности, и весной 1985 года попросту ее ликвидировала. На этом британское правительство отошло от прямого участия в нефтяных делах, а ликвидация БНОК выбила еще одну опору в сохранении цены ОПЕК. И это было еще одной победой для рынка.
В нефтяной промышленности все сходились на мнении, что если цена и упадет на несколько долларов, то затем она восстановится и к концу восьмидесятых или началу девятностых годов начнет снова подниматься. Все же, вялый спрос плюс растущий объем нефтедобычи, а также переход к товарному рынку все убедительнее указывали на одно направление – направление в сторону снижения. Но насколько?
ДИЛЕММА ОПЕК ОСЛОЖНЯЕТСЯ
К середине восьмидесятых годов ОПЕК предстояло сделать решительный выбор. Она могла бы снизить цену, но где остановится ее дальнейшее падение? Или же продолжать ее поддерживать. Но в таком случае это означало создать зонтик, под которым процветала бы нефть не входящих в ОПЕК стран, конкурентные энергоносители и энергосбережение, а ей самой угрожало бы сокращение ее удельного веса в обороте рынка. Еще более ухудшало положение и то, что поток нефти из самих стран ОПЕК будет расти. Даже несмотря на продолжавшуюся войну между Ираном и Ираком экспорт из этих стран становился более устойчивым. Нигерия тоже повысила нефтедобычу и, жадная до доходов, временно провозгласила политический лозунг „Прежде всего Нигерия“, направленный на максимальное увеличение экспорта.
Как часто повторялось и в прошлом, многое зависело от саудовцев. В 1983 году Саудовская Аравия открыто взяла на себя функции производителя‑балансира, варьируя объем своей нефтедобычи, чтобы поддерживать цену ОПЕК. Но к 1985 году ее издержки по сравнению с другими странами ОПЕК становились непропорционально велики. Поддержка цены означала огромное падение нефтедобычи и потерю обширной доли рынка, а значит, и доходов. В 1981 году доходы Саудовской Аравии достигли наивысшей точки и составляли 119 миллиардов долларов. К 1984 году они упали до 36 миллиардов и продолжали падать, составив в 1985 году 26 миллиардов долларов. Между тем Саудовская Аравия, как и другие экспортеры, осуществляла дорогостоящую программу развития, которую теперь приходилось значительно свертывать. В стране образовался значительный бюджетный дефицит, шло расходование валютных резервов. Ситуация была настолько тревожной, что обнародование бюджета было отложено на неопределенный период.
Еще одним результатом потери рынков стало более маргинальное положение Саудовской Аравии на мировой арене. Быстрое падение политического влияния и значения, а также вероятность дальнейшего ухудшения ситуации противоречили основным принципам политики безопасности, и это происходило в то время, когда региону угрожала ирано‑иракская война, а против Саудовской Аравии продолжал осуществлять свою вендетту аятолла Хомейни. Драматическая потеря рынков также сократила влияние саудовцев на политику стран Среднего Востока, на ход арабо‑израильского конфликта, уменьшилось ее влияние и в промышленных странах Запада. Власть нефти теряла свои позиции. „В принципе мы должны провести черту между экономикой и политикой, – сказал, выступая по саудовскому телевидению, Ямани. – Другими словами, политические решения не должны определяться требованиями экономики. Но нефть – это политическая сила, и никто не может отрицать, что политическая сила арабов в 1973 году была обязана нефти и что в 1973 году ее влияние в странах Запада достигло наивысшей точки также благодаря нефти. В настоящее время мы переживаем трудности в связи со слабостью политической силы арабов опять же из‑за присутствия нефти. Это элементарные факты, известные даже „человеку с улицы“.
Саудовцы направили ряд предупреждений всем странам ОПЕК, а также производителям нефти в других странах. Саудовская Аравия, говорилось в них, не примирится с потерей своей доли рынков, она не будет бесконечно терпеть изакрывать глаза на манипуляции стран ОПЕК с квотами и увеличение нефтедобычи другими странами, на нее также не следует далее рассчитывать как на производителя‑балансира. В случае необходимости, она затопит рынок нефтью. Были ли эти предупреждения серьезной угрозой, прямым указанием ее намерений? Или же лишь маневром, рассчитанным на запугивание? Однако если сау‑довцы не осуществят некоторые перемены, то вполне логично было ожидать, что их нефтедобыча упадет до миллиона баррелей в день, а может быть, даже и ниже, поскольку экспортные рынки у нее почти полностью теперь отсутствовали. При таком положении Саудовская Аравия как страна, облик и влияние которой в полном смысле слова определяла нефть, на мировой арене почти полностью утратит свой прежний имидж.
ДОЛЯ РЫНКА
В первые дни июня 1985 года министры ОПЕК собрались в Таифе, в Саудовской Аравии. Ямани зачитал послание короля Фахда, который резко критиковал нарушение квотового соглашения и снижение цены другими странами ОПЕК, что привело „к потере рынков для Саудовской Аравии“. Саудовская Аравия, говорилось в послании, не будет вечно терпеть такое положение. „Если страны‑члены Организации считают, что им предоставлена полная свобода действий, – заявлял король, – то такая свобода должна распространяться на всех членов ОПЕК, и Саудовская Аравия будет, конечно, защищать свои собственные интересы“.
После прочтения послания нигерийский министр нефти выразил надежду, что „это мудрое послание будет принято во внимание“. Но в последовавшие недели никаких заметных признаков этого не было. И саудовская нефтедобыча упала до 2,2 миллиона баррелей в день, то есть до половины ее квоты и немногим выше пятой части того, что она производила всего 10 лет назад. Экспорт в Соединенные Штаты, который в 1979 году достигал 1,4 миллиона баррелей в день, в июне 1985 года опустился до 26000 баррелей, что, в сущности, было равно нулю.
Летом 1985 года саудовская нефтедобыча временами была ниже того, что давал британский сектор Северного моря. Это было последним унижением для саудовцев. Получалось, что они поддерживают цену ради того, чтобы британцы увеличивали свою нефтедобычу, и это в то время, когда премьер‑министр Великобритании Маргарет Тэтчер продолжала демонстрировать свою привязанность к свободным рынкам и рекламировать свое безразличие к состоянию цен на нефть. Еще гораздо большая угроза существовала ближе к дому. Иракцы вели реструктурирование своих экспортных возможностей, расширяя старые и добавляя новые трубопроводы, причем некоторые из них через территорию Саудовской Аравии. Как бы дальше ни развивались события, огромный дополнительный поток иракской нефти уже готовился пробить себе путь на и так перенасыщенный рынок. Такое положение далее терпеть было нельзя. Что‑то приходилось предпринимать, и теперь снова, как и в семидесятые годы, это будет цена, только она пойдет в обратном направлении. Однако как низко она опустится?
В нефтяной промышленности снова возникла тень прошлого – Джон Д. Рокфеллер и перспектива всеобщей ценовой войны. В конце девятнадцатого и начале двадцатого столетий Рокфеллер и его сообщники неоднократно устраивали своим конкурентам „хорошую встряску“, перенасыщая рынок и сбивая цены. Конкурентам приходилось заключать перемирие на условиях „Стандард ойл“, а если они не обладали ее силой, их выталкивали из бизнеса или поглощали. Конечно, в середине восьмидесятых годов обстоятельства были совершенно другими, но уже не настолько другими. И снова „хорошая встряска“ грозила повториться.
Саудовцы перешли от защиты цены к защите объема нефтедобычи – своего желаемого уровня – и выбрали для этого оригинальное оружие: сделки „нет‑бэк“ с партнерами „Арамко“ и другими нефтяными компаниями, занимавшими стратегическое положение на ключевых рынках. По таким сделкам Саудовская Аравия не устанавливала фиксированной цены для переработчика и получала оплату, исходя из того, сколько давала продажа нефтепродуктов на рынке. Переработчику, однако, помимо прочего, гарантировалась заранее определенная прибыль – скажем, 2 доллара за баррель. Не важно, была ли окончательная продажная цена нефтепродуктов 29,19 или же 9 долларов, он получал свои 2 доллара, а саудовцы остальное (минус различные затраты). Прибыль переработчика была фиксированной. Так что на момент продажи ничто особенно не побуждало его бороться за большую цену. Он был заинтересован продать просто как можно больше. Он знал, что, какова бы ни была цена, каждый дополнительный баррель принесет ему дополнительные 2 доллара прибыли. Но рост объема продаж и ослабление тревоги по поводу продажной цены становились идеальным средством, вызывавшим падение цен. Со своей стороны, саудовцы надеялись, что потери из‑за более низких цен они восполнят за счет более высоких объемов. Однако они старались также и не создавать слишком большой конфронтации, их целью было вернуться на уровень установленной квоты, и только, и они приняли фиксированный максимум объема, покрываемого их новыми сделками „нет‑бэк“. Таким образом, их новая политика была направлена как против других стран ОПЕК, которые, нарушая квоты, забирали их долю рынка, так и против других, не входящих в ОПЕК стран.
Летом 1985 года старшему исполнительному директору одного из партнеров „Арамко“ позвонил Ямани. Министр нефти напомнил, что его собеседник ранее говорил о своей заинтересованности в увеличении закупок у Саудовской Аравии, если цена будет конкурентоспособной, и что сейчас, пояснил Ямани, такое время пришло. В августе исполнительный директор слетал в Лондон для согласования условий по сделке „нет‑бэк“. „Похоже, что это обещает быть конкурентоспособным“, – сказал он и тотчас же подписал контракт. Ряд других компаний, в том числе и другие партнеры „Арамко“, согласились на заключение подобных сделок.
Контракты по новому виду сделок, безусловно, означали, что официальной саудовской цены больше не существует. Цена будет такой, какую она сможет выручить на рынке. А значит, и цены ОПЕК на нефть также не будет. Распространившиеся на мировых рынках в конце сентября и начале октября 1985 года сведения о саудовских сделках вызвали нервозность и тревогу. Однако стоило саудовцам обратиться к стратегии возврата утраченных позиций на рынке, как за ней последовали другие экспортеры, из соображений чистой самозащиты своей конкурентоспособности. Сделки „нет‑бэк“ начали распространяться. Для давно страдавшего потока нефтяной промышленности это было своего рода благословение, возможность наконец делать деньги на переработке, что с начала семидесятых годов казалось абсолютно невозможным. Означало ли это, что цена должна была резко упасть? Большинство экспортеров именно так и считали, но это будет не ниже 18–20 долларов за баррель; ниже этого, по их мнению, нефтедобыча в Северном море станет экономически невыгодной. В этом они ошибались. Ставки налогового обложения в Северном море были столь высоки, что, например, на участке „Ниниан“ падение цены с 20 до 10 долларов стоило бы компаниям лишь 85 центов. Наибольшие потери понесло бы британское казначейство, которое забирало большую часть ренты. Фактические операционные расходы на „Ниниан“ – наличные затраты на извлечение нефти – составляли всего 6 долларов за баррель, так что любая цена выше этой не давала оснований останавливать производство. Более того, временное прекращение операций было делом столь дорогостоящим и сложным, что к нему вряд ли прибегли бы даже и в том случае, если цена упадет ниже 6 долларов. Как в то время заметил председатель „Шеврона“ Джордж Келлер, „минимального уровня цены не существует“. Все же некоторые считали, что она вряд ли дойдет до столь низкого предела, это было бы нерационально.
С начала ноября 1985 года, с приближением зимы цена на фьючерсном рынке определяющего движение конъюнктуры „Уэст Тексас интермедиат“ продолжала повышаться, достигнув 20 ноября 1985 года наивысшего зарегистрированного на НИМЕКС уровня в 31,75 доллара, что опровергало возможную угрозу ценового краха. Многие, конечно, считали, что саудовцы в действительности не имели в виду то, что они говорили, что это был просто своеобразный способ сделать предупреждение, рассчитанное на то, чтобы напугать других членов ОПЕК и восстановить дисциплину.
Через полторы недели после повышения в ноябре ОПЕК снова провела совещание. Своими действиями Саудовская Аравия уже, по сути дела, объявила войну другим членам ОПЕК. Теперь же ОПЕК, уже как группа, включая и Саудовскую Аравию, объявила о своем намерении выступить за возврат утраченных рынков и против не входящих в нее стран‑экспортеров. В коммюнике совещания появилась новая формулировка: ОПЕК больше не выступает в защиту цены, теперь ее задача – „получить и защитить справедливую долю мирового нефтяного рынка, соответственно размеру дохода, необходимого для развития ее стран“.
Однако насколько значительны были в действительности эти слова? Когда 9 декабря текст коммюнике принесли главным экспертам по планированию одной из стран ОПЕК, кто‑то из них небрежно заметил: „О, еще одно очередное коммюнике ОПЕК, на этот раз зимнее“. А вскоре цены на нефть начали резко падать.
ТРЕТИЙ НЕФТЯНОЙ КРИЗИС
Дальнейшие события были не менее бурными и драматическими, чем во время кризисов в 1973–1974 годах и в 1979–1982 годах. За несколько месяцев цена „Уэст Тексас интермедиат“ упала до 10 долларов за баррель, то есть на 70 процентов от своей высшей точки в 31,75 доллара в конце ноября 1985 года. Некоторые грузы из Персидского залива продавались примерно за 6 долларов за баррель. Во время двух предыдущих кризисов в результате маргинальных потерь и срыва поставок цены подскочили вверх. Теперь также маргинальными были фактические изменения объемов. Нефтедобыча ОПЕК в первые четыре месяца 1986 года составляла в среднем около 17,8 миллиона баррелей в день – лишь примерно на девять процентов выше, чем в 1985 году, и, по существу, соответствовала квотам 1983 года. В целом дополнительный объем означал повышение не намного большее, чем на 3 процента в суммарных поставках нефти стран Запада! Однако в сочетании со стремлением получить долю рынка оно вызвало такое падение цен, какое несколько месяцев назад было трудно даже представить.
Это был действительно третий нефтяной кризис, только его последствия шли в обратном направлении. Теперь экспортеры сражались за рынки, а не покупатели за поставки. И покупатели, а не продавцы, расталкивали друг друга в погоне за самой дешевой ценой. Такая незнакомая прежде ситуация снова подняла вопрос о безопасности, однако в новом измерении. Одной стороной было обеспечение спроса для экспортеров нефти – то есть гарантированный доступ к рынкам. Эта тревога, возможно, казалась новой. Но, по сути дела, это был тот же самый вопрос как в пятидесятые и шестидесятые годы, вызвавший ожесточенную конкуренцию между странами‑экспортерами и заставивший Переса Альфонсо искать гарантированный рынок в Соединенных Штатах прежде, чем он отправился в Каир и сделал первый шаг на пути к созданию ОПЕК. Для потребителей при том сражении за долю рынка, которое вели экспортеры, все тревоги семидесятых годов по поводу надежности поставок уже теряли свою остроту. И что же это обещало в будущем? Не подорвет ли дешевая импортная нефть основы безопасности энергетики, с таким трудом перестроенной за прошедшие тринадцать лет?
Дело было не просто в том, что цены падали – они вышли из‑под контроля. Впервые за все прошедшее время не существовало ценообразующей структуры. Не существовало даже официальной цены ОПЕК. Рынок одержал победу, по крайней мере, на данное время. Цена теперь устанавливалась не в результате напряженных переговоров между странами ОПЕК, а складывалась на основе тысяч отдельных сделок – сделок „нет‑бэк“, компенсационных, бартерных сделок, сделок с переработкой, аукционных и множества других. Казалось, не было конца вариантам и приемам, к которым прибегали экспортеры, чтобы удержаться на плаву и вернуть рынки. Борьба шла не только между странами ОПЕК и другими экспортерами, но несмотря на принятое в 1985 году коммюнике и между отдельными членами ОПЕК. И в атмосфере жесточайшей конкурентной борьбы дело сводилось к предложению скидки за скидкой ради удержания рынков. „Все устали от бесконечных переговоров за каждый груз, за каждую четверть доллара, – сказал в середине 1986 года глава Иракской государственной комиссии по маркетингу. – В итоге выступавший от имени экспортера сырой нефти ленивый посредник просто дает всеохватывающие скидки, чтобы быть уверенным, что он сбивает цены на все другие баррели ОПЕК“. И обвал цен вызвал не какой‑то специфический тип сделки, а скорее такие главные факторы, как рост объемов нефти, искавшей рынки, которых для нее уже не хватало, и устранение регулирования, которое в данном случае ранее осуществляла ОПЕК и, в частности, Саудовская Аравия.
Во всем нефтяном мире реакция на кризис была однозначной – это был шок. Предпримет ли что‑либо ОПЕК? И сможет ли? Организация переживала серьезный раскол. Иран, Алжир и Ливия хотели, чтобы ОПЕК приняла новые и гораздо более низкие квоты и таким образом вернула цену к 29 долларам за баррель. Страны с большим объемом нефтедобычи, главным образом Саудовская Аравия и Кувейт, оставались верны своему стремлению вернуть утраченный рынок. Ямани обвинял во всем покупателей, жалобно заявив исполнительному директору одной из главных компаний: „Я не продал ни барреля кому‑либо, кто этого не хотел“. Между тем Иран и Ирак, два из главных членов ОПЕК, по‑прежнему вели ожесточенную борьбу, и враждебное отношение Ирана к экспортерам‑арабам не ослабевало.
Не входящие в ОПЕК страны не меньше страдали из‑за потери своих доходов. Они с опозданием поняли всю серьезность предупреждений ОПЕК и только теперь предпринимали первые шаги к началу „диалога“. Весной 1986 года Мексика, Египет, Оман, Малайзия и Ангола присутствовали на совещании ОПЕК в качестве наблюдателей. Консервативное правительство Норвегии первоначально заявило, что оно как член западного сообщества не будет участвовать в переговорах с ОПЕК. Однако нефть обеспечивала 20 процентов доходов правительства, и оно теперь испытывало трудности с бюджетом. В результате правящая партия пала, и к власти пришла лейбористская оппозиция. Новый премьер‑министр сразу же объявил, что Норвегия готова предпринять шаги, чтобы помочь стабилизировать цены. И на стоявшую в Венеции яхту Ямани прибыл министр энергетики нового правительства, чтобы во время круиза обсудить ценовой вопрос. Однако в целом диалог между ОПЕК и не входящими в нее странами не принес существенных результатов. Итак, при отсутствии согласия как внутри ОПЕК, так и между ОПЕК и не входящими в нее странами, „хорошая встряска“ продолжалась всю весну 1986 года.
„КОЕ– КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ“
Для многих нефтяных компаний новый кризис оказался неожиданным. Их исполнительные директора были убеждены, что „они“, то есть страны ОПЕК, не сделают такой глупости, как отказ от большой части своих доходов. Тем не менее некоторые думали по‑другому. В Лондоне специалисты по планированию из „Шелл“, тщательно изучив конъюнктуру, разработали так называемый СПЦН – сценарий падения цен на нефть. Компания утверждала, что ее главные менеджеры относятся к нему со всей серьезностью и, хотя они и считают его несколько неправдоподобным, обсуждают дальнейшие действия и приступают к профилактическим мерам. Таким образом, когда цены рухнули, на берегу Темзы в здании „Шелл“ в отличие от шока во многих других нефтяных компаниях царило мрачное спокойствие и порядок. Там, как и на местах, менеджеры занимались своей работой, словно выполняя операции по гражданской обороне в условиях чрезвычайного положения, к которому они уже давно подготовились.
В целом нефтяная промышленность, очнувшись от шока, ответила масштабным сокращением расходов. Особенно сильный удар пришелся на разведочные работы и нефтедобычу в Соединенных Штатах. В США они были как самыми дорогостоящими, так и приносившими самые большие разочарования. Кто мог забыть Муклук – сухую скважину на Аляске, обошедшуюся в 2 миллиарда долларов? И в США компании могли проявлять наибольшую гибкость – там им не приходилось беспокоиться о нарушении давно заключенных договоренностей с национальными правительствами, как с этим обстояло дело во всем развивающемся мире. Потребители, конечно, ликовали. Все их страхи по поводу постоянной нехватки нефти теперь улеглись. Их образу и стилю жизни ничто больше не угрожало. После всех лет гнева, угроз и обид нефть снова стала дешевой. Предсказания рокового конца не сбылись, власть нефти казалась неопасной и не такой уж страшной. „Бензиновые войны“ за потребителя на местных бензоколонках, которые вроде бы затихли в пятидесятые и шестидесятые годы, вернулись обратно, но теперь уже были результатом глобальной нефтяной войны. И насколько низко могли в действительности упасть цены? Бесспорный минимум, несомненно, был установлен в северной части Остина в Техасе во время однодневной рекламной компании в начале апреля 1986 года, спонсором которой выступала местная радиостанция, передававшая музыку „кантри“. В этот день на колонке „Экссона“, где оператором был Билли Джек Мейсон, цена неэтилированного бензина была ноль центов. Бесплатно! Такая сделка превосходила все, и результатом было своего рода стихийное бедствие. К 9 часам утра очередь ожидавших заправки автомашин растянулась на 6 миль, некоторые водители приехали даже из таких отдаленных мест, как Уэйко. „Для этого надо было лишь предпринять кое‑какие действия“, – пояснил Билли Джек. И когда его, как нефтяного эксперта спрашивали, что он думает о ценах в будущем, он уверенно отвечал: „Это зависит от других стран. Мы здесь ничего не можем поделать, пока арабы не выправят цены“.
Другой техасец, правда, из вновь прибывших, соглашался с Билли Джеком, что если не все, то по крайней мере многое зависит от арабов. Это был вице‑президент Соединенных Штатов Джордж Буш, и в то время, когда Билли Джек отпускал бензин за ноль центов за галлон, он собирался отправиться со специальной миссией на Средний Восток, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе и нефть. Визит в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива был включен в его рабочую программу за несколько месяцев до обвала цен. Но сейчас он отправлялся в эту поездку, когда американская нефтегазовая отрасль, экспортеры нефти, потребители, союзники Америки – буквально все задавали один и тот же вопрос. Собирается ли правительство Соединенных Штатов что‑либо предпринять в связи с обвалом цен?
Время, положение и прошлая деятельность делали Буша самой подходящей фигурой для решения проблем администрации Рейгана и в целом американской внешней политики в этот крайне деликатный момент международных отношений.
ДЖОРДЖ БУШ
Через несколько лет, в 1989 году, накануне своей инаугурации Буш говорил: „Я сказал бы это так: они получили президента Соединенных Штатов, который вышел из нефтегазовой отрасли и который хорошо ее знает“. Действительно, он хорошо знал опасный и рискованный мир независимых нефтепромышленников, которые являлись основной силой в нефтеразведке США и которые были практически нокаутированы в результате обвала цен. Это был мир, в котором прошли годы его формирования. Окончив в 1948 году Йельский университет, Буш отклонил ряд предложений с Уолл‑стрит, очевидных для выпускников университетов из такой же, как и он, социальной среды: его отец был партнеромфирмы „Браун бразерз, Гарриман“, а затем сенатором от штата Коннектикут. В поисках работы Буш обратился в „Проктер энд Гэмбл“, прошел там собеседование, но дальше этого дело не пошло. Тогда он погрузил вещи в свой красный „студебеккер“ 1947 года выпуска и отправился в Техас, сначала в Одессу, затем в соседний Мидленд, который вскоре стал называть себя „нефтяной столицей Западного Техаса“. Он начал с самого низа, с должности стажера, которому поручали окраску нефтяного оборудования, затем стал коммивояжером, объезжая вышку за вышкой, выясняя, какие размеры буров нужны покупателям и в какой породе они ведут бурение, и старался получить заказы.
Буш был человеком с Востока, где уклад жизни, привычки и стиль поведения в представлении некоторых жителей Запада определялись как аристократические. И он не был абсолютно нетипичным. У жителей Восточного побережья существовала благородная традиция отправляться на нефтепромыслы Техаса и сколачивать свое состояние на техасской нефти. Так было со времени Меллонов и Пьюсов в Спиндлтопе, то есть тех, кого журнал „Форчун“ назвал „роем молодых представителей Лиги плюща“, которые – среди них и Буш – в годы после Второй мировой войны „опустился на удаленный от всего мира нефтяной городок Западного Техаса, Мидленд, и создал самый невероятный форпост работающих в поте лица богачей“, а заодно и „союз между кактусом и Плющом“. И вовсе не было случайностью, что магазин мужской одежды „Альберт С. Келлис“ в Мид‑ленде одевал своих клиентов точно так же, как и „Брукс бразерз“.
Достаточно скоро в этом небольшом мирке Буш, как он говорил позднее, „подхватил лихорадку“ и образовал независимую нефтяную компанию в партнерстве с другими амбициозными молодыми людьми, не менее его жаждавшими делать деньги. „У кого‑то из нас была бурильная установка, кто‑то знал о возможной сделке, а все мы старались раздобыть средства, – сказал как‑то один из партнеров. – На нефти были помешаны все в Мидленде“. Они хотели дать своей компании какое‑то броское, запоминающееся название. Один из партнеров сказал, что оно должно начинаться или с буквы „А“, или с „Z“, чтобы оно было первым или последним в телефонном справочнике и не затерялось бы где‑то в его середине. В те дни на экранах Мидленда шел фильм „Да здравствует, Сапата!“ с Марлоном Брандо в роли мексиканского революционера – и они назвали свою компанию „Сапата“, на букву „зет“.
Буш быстро овладел навыками независимого нефтяника. Он летал в жуткую непогоду в Северную Дакоту, чтобы купить у фермеров права на аренду участков, рылся в регистрационных записях о земле в районе предполагаемых месторождений, разыскивая тех, кто владел не только землей, но и правами на то, что лежит в ее недрах, договаривался о срочном и дешевом найме надежной бурильной бригады и, конечно, совершал паломничества обратно на Восточное побережье, чтобы найти инвесторов. В одно прохладное зимнее утро в середине пятидесятых годов ему удалось завершить сделку поблизости от вашингтонского вокзала Юнион‑стейшн с августейшим владельцем газеты „Вашингтон пост“ Юджином Мейером на заднем сиденье его автомобиля. Мейер подключил к сделке и своего зятя и оставался одним из инвестором Буша в течение многих лет. А помогло ли название „Сапата“ Бушу и его партнерам в их новом предприятии? „У „Сапаты“ были свои плюсы и минусы, – сказал партнер Буша Хью Лидтке. – Те, кто пришел к нам с самого начала, получили хороший доход по своим инвестициям. Ну, они считали, что Сапата – это патриот. Те же, кто пришел в период сильнейшего падения рыночной конъюнктуры, те думали, что он бандит“.
В конечном счете, партнеры полюбовно разделили „Сапату“ на две части, и Буш взял оффшорный бизнес, сделав его одним из пионеров и лидеров в динамичном развитии оффшорного бурения и нефтедобычи как в Мексиканском заливе, так и в мире. Даже сегодня постаревшие институциональные фондовые брокеры в Нью‑Йорке все еще вспоминают, что, когда они звонили в офис „Са‑паты“ в Хьюстоне, чтобы выяснить, каковы будут результаты в следующем квартале, они слышали на другом конце линии не растягивание слов какого‑то доброго старого техасца, а носовой выговор настоящего янки – Джорджа Буша. Поскольку помимо обязанностей главного исполнительного директора, он занимался еще и обеспечением связи с инвесторами. Он жил в период менявшихся циклов развития послевоенной нефтяной промышленности, видел сколь чувствительна была активность в нефтяной отрасли к изменениям цен на нефть, а также сколь уязвима она была перед иностранной конкуренцией в те годы огромного движения нефти со Среднего Востока – по крайней мере до тех пор, пока Эйзенхауэр не ввел в 1959 году квоты. Его дела шли хорошо. Об этом говорил даже такой факт, что семья Буша одной из первых построила бассейн возле своего дома в пригороде Мидленда.
К концу шестидесятых годов Буш решил, что он заработал достаточно денег, его отец уже десять лет был сенатором и он тоже направит свои стопы в этом же направлении. Он ушел из нефтяного бизнеса в политику. Республиканская партия еще только утверждала свои позиции в Техасе. Но демократы, собиравшие значительную часть голосов штата, были не единственной политической проблемой. Готовящаяся к новому вступлению во власть Республиканская партия подвергалась нападкам справа, и в какой‑то момент Бушу пришлось защищаться от обвинений Общества Джона Берча в том, что его тесть был якобы коммунистом, лишь потому, что этот джентльмен являлся издателем несколько неудачно названного женского журнала „Редбук“ (Красная книга).
Буш прошел путь от председателя окружного совета до палаты представителей конгресса. В отличие от Калуста Гюльбенкяна, он не поскользнулся на своих нефтяных знакомствах, и его партнеры времен жизни в Мидленде остались в числе его ближайших друзей. Предполагалось, что, как конгрессмен от Хьюстона, он будет отстаивать интересы нефтяной отрасли, что он решительно и делал. В 1969 году, когда Ричард Никсон рассматривал вопрос о системе квот, которые ограничивали импорт нефти, Буш организовал в Хьюстоне у себя в доме встречу министра финансов Дэвида Кеннеди с группой нефтепромышленников. Впоследствии он поблагодарил Кеннеди в письме за то, что министр нашел время для этой дискуссии. „Я был также очень признателен вам за то, что вы сказали им, что я отдаю все свои силы нефтяной промышленности, – писал он. – Это может убить мои шансы в глазах „Вашингтон пост“, но это чертовски помогает мне в Хьюстоне“. Однако нефть вряд ли уже занимала главное место в его политической повестке дня теперь, когда он занимал другие посты – представителя США в Организации Объединенных Наций, председателя Национального комитета республиканской партии во время уотергейтских событий, посла США в Китайской Народной Республике, директора ЦРУ, – а затем в течение четырех лет вел избирательную кампанию за выдвижение своей кандидатурына пост президента от республиканской партии. В 1980 году Рональд Рейган, которому он проиграл, выбрал его партнером по избирательному бюллетеню, и он стал вице‑президентом.
В отличие от Джимми Картера, который сделал энергетику центральным вопросом своей администрации, у Рональда Рейгана этот вопрос отошел на задний план и стал как бы дополнительным. Энергетический кризис, считал Рейган, возник главным образом из‑за системы регулирования и неправильно ориентированной политики правительства Соединенных Штатов. Решение проблемы лежало в отстранении правительства от решения вопросов энергетики и возвращении к „свободным рынкам“. Во всяком случае, во время своей избирательной кампании Рейган заявил, что на Аляске нефти больше, чем в Саудовской Аравии. Одним из первых действий его администрации было поспешное снятие контроля над ценами на нефть, который начала вводить администрация Картера. В таком переходе к политике „дружественного невнимания“ к энергетике, новой администрации, безусловно, помогали события на мировом нефтяном рынке. Несчастье Джимми Картера – рост цен на нефть – обернулось удачей для Рональда Рейгана: примерно в то время, когда он в 1981 году перебрался в Белый дом и когда до обвала цен оставалось еще пять лет, откорректированная с учетом инфляции цена на нефть фактически начала свое длительное сползание вниз в результате роста нефтедобычи не входящих в ОПЕК стран и падения спроса. Падение реальной цены не только лишало энергетику статуса доминирующего вопроса, но также и служило одним из главных стимулов возобновившегося экономического роста и снижения инфляции – тех двух ключевых факторов, которые вызвали бум рейганомики. Конечно, обращение к „свободному рынку“ основывалось на противоречии: ведь картель, то есть ОПЕК, сдерживал падение цены на нефть, таким образом создавая стимулы для энергосбережения и развития энергетики в Соединенных Штатах и в других странах Запада. Но это противоречие ни в чем реально не проявлялось и никого не беспокоило до тех пор, пока в 1986 году не произошел обвал цен.
В этот год была развязана, по словам исполняющего обязанности генерального секретаря ОПЕК, не что иное, как „абсолютная конкуренция“. И ее результаты оказались губительны для американской нефтяной промышленности. „Розовые листки“ – извещения об увольнении – пачками вылетали из ее предприятий, на всем нефтедобывающем пространстве выстраивались в ряды остановившиеся бурильные установки, финансовая инфраструктура Юго‑Запада качалась, а к самому региону подбирался экономический кризис. Более того, если бы цены остались низкими, спрос на нефть в Соединенных Штатах взлетел бы вверх, нефтедобыча в стране упала и снова бы хлынул поток импортной нефти, как это произошло в семидесятые годы. Вероятно, что касалось действия „рыночных сил“, это было уже чересчур. Тем не менее правительство Соединенных Штатов вряд ли было в состоянии что‑либо предпринять, даже если бы и было вынуждено, перед лицом этих мощных сил спроса и предложения. Одной возможностью было ввести тарифы и таким образом защитить энергетику и по‑прежнему обеспечивать стимулы для энергосбережения. Но хотя в 1986 году раздавались многочисленные призывы к введению тарифов, ни один из них не исходил от рейгановской администрации. Другим вариантом было попытаться оказать нажим на ОПЕК и принудить ее снова к совместным действиям. Так, длительное официальное невнимание Джорджа Буша к нефти резко закончилось. Кто же еще в администрации Рейгана имел такой длительный опыт в нефтяной промышленности и лучше всех годился для переговоров с саудовцами по вопросам нефти?!
„Я ЗНАЮ, ЧТО Я ПРАВ“
Первоначально планировалось, что в условиях, по‑видимому, бесконечной ирано‑иракской войны главной задачей поездки Буша в страны Персидского залива было подтвердить поддержку Соединенными Штатами умеренных арабских государств этого региона. Но, приехав в Саудовскую Аравию, вряд ли было возможно не обсуждать нефтяной вопрос, особенно в то время, когда цена на нефть упала ниже 10 долларов за баррель. Был ли это реванш саудовцев? В семидесятые годы высшие американские должностные лица толпами наезжали в Эр‑Рияд, чтобы просить саудовцев сдержать рост цен и не допускать их повышения. Теперь, в 1986 году, поедет ли вице‑президент Соединенных Штатов в Саудовскую Аравию, чтобы просить их повысить цену?
Буш, несомненно, понимал, что дело зашло слишком далеко. Положение в Техасе и во всей нефтяной промышленности было таким же скверным или даже еще хуже, чем в то время, когда он занимался нефтяным бизнесом. Более того, протесты и критика со стороны своих политических союзников на Юго‑Западе, особенно в Техасе, внезапно резко обострились. Буш не был одинок со своими тревогами в рейгановской администрации – министр энергетики Джон Херрин‑гтон предупреждал, что падение цен на нефть достигло такого уровня, что создает угрозу национальной безопасности. Но эти два человека составляли меньшинство в администрации.
В начале апреля 1986 года, накануне своей поездки, Буш обещал, что он будет очень настойчиво убеждать саудовцев в необходимости соблюдения „наших внутренних интересов и, следовательно, интересов нашей национальной безопасности… Я считаю существенным, – продолжал он, – чтобы в переговорах были обсуждены вопросы стабильности с тем, чтобы мы постоянно не стояли на грани свободного падения подобно человеку, прыгающему из самолета без парашюта“. Он повторил, словно заповедь, главную концепцию рейгановской администрации – приверженность к свободному рынку. „Наш ответ – это рынок, пусть работают рыночные силы, – несколько раз сказал он. Но все же добавил: Я верю и всегда верил, что сохранение сильной американской [нефтяной] промышленности отвечает интересам национальной безопасности и жизненным интересам нашей страны“. Буш явно имел в виду, что действие рыночных сил зашло слишком далеко. И его слова вызвали в рейгановском Белом доме определенную неловкость и были сразу же дезавуированы. „Путь к решению вопроса стабильности цен лежит в предоставлении возможности свободному рынку работать“, – заявил представитель Белого дома, многозначитально подчеркивая, что Буш обратит внимание короля Фахда на то, что определять уровни цен должны не политики, а рыночные силы.
Первую остановку Буш сделал в Эр‑Рияде, где он открыл новое здание посольства США. На ужине с несколькими министрами, на котором присутствовал Ямани, затрагивались, конечно, вопросы нефти, и Буш заметил, что еслицены останутся на слишком низком уровне, в конгрессе Соединенных Штатов усилится давление сил, требующих введения тарифов, и что сопротивляться этому давлению будет чрезвычайно трудно. Саудовцы восприняли это замечание очень серьезно. Затем вице‑президент направился в восточные провинции, в Дахран, где временно находился король. В честь американской делегации в Восточном дворце короля был устроен прием, и обслуживали его официанты, у которых на поясе висели кинжалы и пистолеты, а грудь перепоясывали патронташи с патронами. К облегчению американской Секретной службы, их винтовки стояли вдоль стен.
Аудиенция у короля была запланирована на следующий день, но после банкета американцам сказали, что в связи с нападением иранцев на саудовский танкер она переносится на более поздний час. Буша пригласили к королю поздно вечером. Встреча длилась в целом больше двух с половиной часов и закончилась после 2‑х часов ночи. Военные успехи и угрозы Ирана вызывали у саудовцев огромную тревогу, и главным предметом беседы, как и всей миссии Буша, был вопрос безопасности в Персидском заливе и поставки американского оружия. Нефть была затронута лишь поверхностно, но по сообщению американских официальных лиц, Фахд все же выразил надежду на установление „стабильности на рынке“. Отмечали также, что король „считал, что Саудовской Аравии предъявляют, выражаясь недипломатическим языком, сфабрикованные обвинения по поводу ее роли на рынке нефти“.
Хотя Буш и навлек на себя критику дома, он не отказывался от своей позиции в вопросе цен на нефть. „Я знаю, что я прав, – сказал он после встречи с королем.
– Есть некоторые вещи, в которых вы всегда уверены. Так и в этом вопросе я абсолютно уверен“, – то есть уверен в том, что низкие цены нанесут урон американской энергетике и приведут к серьезным последствиям для страны. На другой день, на завтраке с американскими бизнесменами в Дахране Буш заявил: „Существует какой‑то момент, когда интересы национальной безопасности Соединенных Штатов говорят: „ребята, нам нужна сильная и жизнеспособная промышленность. Я так считал всю свою политическую жизнь и теперь не собираюсь отходить от этой позиции. Я уверен в ее правильности, и я знаю, что президент Соединенных Штатов также в этом уверен“. Буш гордился своей лояльностью, и прошедшие пять лет доказали, что он, безусловно, лояльный вице‑президент. Никогда прежде он не отходил от линии, проводимой Белым домом. Но теперь он явно от нее отошел, и реакция на это стала еще более враждебной и открытой. „Бедный Джордж“ – так теперь, говоря о нем, пренебрежительно называл его один из главных советников Белого дома, подчеркивая этим, что позиция Буша не является „политикой администрации“. Но Буш отказывался отступать – по крайней мере, далеко. „Я не знаю, защищаю ли я интересы [американской нефтяной] промышленности, но я уверен, что защищаю позицию, в верности которой я глубоко убежден…Является ли это помощью в политическом плане или же наносит политический урон меня совершенно не волнует“.
Общее мнение сходилось на том, что Буш не только допускает промахи, но и совершает роковую ошибку, которая повредит его политическим амбициям и приведет к политическому самоубийству. Ликующие противники выдвижения его кандидатуры на пост президента от Республиканской партии не заставили себя ждать, демонстрируя клипы с записями заявлений Буша во время первичных выборов в Нью‑Хэмпшире – отнюдь не нефтяном штате, которые обычно определяют дальнейшее участие кандидата в предвыборной кампании. Синдицированные журналисты обвиняли его в нежной дружбе с ОПЕК и со всей серьезностью предвещали гибель всех его надежд на выдвижение на пост президента. Конечно, в нефтяных штатах его позиция получала огромную поддержку, но за пределами нефтяной промышленности практически единственным голосом в его поддержку оказалась ни более, ни менее как редакционная статья в „Вашингтон пост“, газете, которая, как когда‑то опасался Буш, уничтожит его за высказывания в защиту нефтяной промышленности. Теперь же „Пост“ писала, что вице‑президент в значительной мере прав в своем предупреждении, что низкие цены подорвут отечественную энергетику, если даже никто и не хочет это признавать. „Мистер Буш прилагает все усилия, чтобы решить конкретный вопрос, – комментировала „Пост“. – Постоянно растущая зависимость от импортной нефти, как он утверждает, не сулит радужных перспектив“. Короче говоря, говорила „Пост“, Буш был прав.
Но что же, в сущности, сказал Буш саудовцам о тарифах? Были ли это замечания, сделанные мимоходом? Или что‑то более весомое? Что бы ни было сказано и как бы это ни было услышано, а между этими двумя вещами в дипломатии всегда существует огромная разница – некоторые саудовцы утверждали, что Буш недвусмысленно предупреждал, что если цены останутся низкими, Соединенные Штаты введут тариф, даже если это и будет полностью противоречить линии рейгановской администрации. Японцы же давали понять, что если Соединенные Штаты накинут тариф на импортируемую нефть, они поступят так же, защищая свою программу диверсификации в энергетике и получения дополнительных доходов для министерства финансов. Немногое могло вызвать такое мгновенное возмущение экспортеров, как перспектива введения тарифов в странах‑импортерах – такое обложение налогом переместило бы доходы из их казны обратно в казну стран‑потребителей.
Но введение тарифов было лишь одной из более серьезных стоявших перед саудовцами проблем. Наряду с другими экспортерами они были встревожены огромными финансовыми потерями в результате обвала цен. Более того, они были крайне возмущены всей той критикой извне и политическим давлением, которые в связи с этим сосредоточивались на них. И приезд Буша явился для них дополнительным стимулом вернуть некоторую стабильность цен. Возможно, некоторые советники вице‑президента и считали, что его замечания по поводу нефти имели целью всего лишь успокоить американских нефтепромышленников, но саудовцы интерпретировали их совершенно иначе: вице‑президент Соединенных Штатов сказал, что обвал оказывает дестабилизирующее действие и угрожает безопасности Соединенных Штатов, что американский импорт значительно возрастет и Соединенные Штаты окажутся в военном и стратегическом отношении слабее Советского Союза. В защите своей собственной безопасности саудовцы всегда опирались на поддержку Соединенных Штатов, и теперь, после визита Буша, думали они, им, безусловно, придется считаться с вопросами безопасности Соединенных Штатов. Они учитывали интересы безопасности США в 1979 году, когда они повысили нефтедобычу. И теперь, весной 1986 года, они снова думали о тех же проблемах. Они испытывали давление со стороны многих стран, в том числе Египта и ведущеговойну Ирака. Они были крайне обеспокоены ирано‑иракской войной и ее возможными последствиями. При всех этих проблемах и трудностях приезд Буша давал саудовцам основания пересмотреть свою позицию в той ожесточенной борьбе за рынок, которая подтолкнула обвал цен, и обратиться к поискам выхода из сложившейся ситуации. К тому же другие экспортеры наконец поняли, что за мошенничество в соблюдении квот приходится теперь платить.
„ХАРАКИРИ“ И 18 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ
Однако никто, в сущности, не знал, как вести себя в конкурентной среде, не обладал каким‑либо опытом. Ветеран ОПЕК Алирио Парра, один из главных чиновников в „Петролеос де Венесуэла“, пытался найти какие‑то исторические прецеденты. Он начал свою карьеру помощником Хуана Пабло Переса Альфон‑со во время формирования ОПЕК и буквально сидел рядом с ним, когда в 1960 году пришло приглашение на совещание по ее образованию. Теперь же казалось, что распад ОПЕК был делом ближайшего будущего. Перебирая в памяти возможные источники информации, Парра вспомнил про книгу, которую он прочел много лет назад. Это была „Нефтяная политика Соединенных Штатов“, опубликованная в 1926 году Джоном Айсом, профессором экономики в университете штата Канзас. Парра с трудом разыскал в Каракасе потрепанный экземпляр и взял его с собой в Лондон, где внимательно его перечитал.
„Плачевные особенности истории нефти в Пенсильвании повторяются в позднейшей истории почти каждого нефтедобывающего района, – писал Джон Айс.
– В отрасли присутствует такая же нестабильность, те же самые повторяющиеся периоды хронического перепроизводства, те же самые резкие колебания цен, за которыми следуют соглашения о сокращении нефтедобычи, те же самые потери нефти, капитала и труда“. Айс описывал один такой период, имевший место в двадцатые годы, как „картину огромного перепроизводства этого ограниченного природного сырьевого материала, растущих запасов, переполненных нефтехранилищ и падающих цен, отчаянных усилий стимулировать использование нефти на совершенно незначительные цели или продажу практически за бесценок.“… Это был период, когда более всего нужная людям вещь – нефть – накидывала удавку, душила и затыкала рот“. Далее Айс писал: „Производители нефти совершали харакири, производя такой огромный объем нефти. Выход из положения видели все, но никто не хотел его принять. Этим выходом являлось, конечно, сокращение нефтедобычи“. Хотя книга была написана шестьдесят лет назад, события и их оценка были Алирио Парра слишком хорошо известны. И он сделал для себя некоторые выписки.
Так Парра оказался в числе горстки экспертов из стран‑экспортеров, начавших работать над созданием новой ценовой системы, в которой учитывался бы такой фактор, как конкурентность рынков нефти и энергоносителей, создававших у потребителей выбор. Это заставило их сосредоточить внимание на новом ценовом уровне в 17–19 долларов и, в частности, на 18 долларах за баррель – цене на 11 долларов ниже официальной цены в 29 долларов, которая была несколько месяцев назад. Каким‑то образом это казалось „правильной“ ценой. Закрывшись в посольстве Кувейта в Вене, Парра и его коллеги провели в мае неделю, обсуждая рациональную основу новой цены. С поправкой на инфляцию она возвращала нефтяные цены к уровню середины семидесятых годов, то есть накануне второго нефтяного кризиса. Теперь, цена в 18 долларов казалась той точкой, при которой нефть вновь обретала конкурентоспособность как по отношению к другим энергоносителям, так и в сфере энергосбережения. Она представлялась наивысшим уровнем, которого могли достичь экспортеры, и при этом стимулировать экономический рост во всем мире и таким образом потребление энергии. Она возродила бы спрос на нефть, перекрыла или, возможно, обратила бы вспять казавшийся бесконечным рост нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК… Цена в 18 долларов „не слишком устраивает мою страну, – сказал своему другу один из главных представителей в ОПЕК. – Но не считаете ли вы, что это самое лучшее из того, что мы можем сделать?“
В последнюю неделю мая 1986 года шесть министров нефти собрались в Таифе, в Саудовской Аравии. Один из министров отметил, что некоторые экспортеры предсказывают, что цены на нефть упадут до 6 долларов за баррель. „Никто из присутствующих здесь не собирается делать потребителям подарок и отдавать нефть за бесценок“, – ответил на это министр нефти Кувейта. Но все же добавил, что старая цена в 29 долларов принесла ОПЕК „больше вреда, чем пользы“.
Затем с изложением решительной позиции Саудовской Аравии выступил Ямани. „Мы хотим увидеть изменения в тенденциях рынка, – заявил он. – Как только мы, повысив нашу долю, вернем контроль над рынком, мы будем действовать соответственно. Мы хотим снова получить власть над рынком“.
Все присутствовавшие министры высказались за поддержку цены в 17–19 долларов и договорились о необходимости попутного введения новой системы квот. Таким образом, то, что еще несколько месяцев назад казалось ересью, теперь становилось мудрым решением. Так, в обстановке волнений и неопределенности этого нового нефтяного кризиса из обломков прошлого весьма определенно рождался новый консенсус в пользу установления цены в 18 долларов за баррель. „Это был процесс постепенного осознания реальности“, – заметил Алирио Парра. И его приветствовали не только производители, но и потребители. Японцы, импортировавшие более 99 процентов своей нефти, возможно, предпочли бы и более низкую цену. Но это был не тот случай. При слишком низких ценах возникли бы две проблемы. Во‑первых, это подорвало бы огромные дорогостоящие работы, которые они предприняли для получения альтернативных энергоносителей, и привело бы, как они были уверены, к более высокой зависимости от нефти и в конечном счете к большей уязвимости страны, а также подготовило бы почву для еще одного кризиса. Во‑вторых, поскольку нефть составляла существенную часть японского импорта, очень низкие цены на нефть чрезмерно раздули бы и так уже огромное сальдо японского торгового баланса, еще более обостряя конфликты с американскими и западноевропейскими торговыми партнерами. Таким образом, в японской энергетике и в правительстве сложилось убеждение, что, приняв за основу примерно в 18 долларов за баррель, будет достигнута „разумная цена“.
Этот новый консенсус присутствовал и в Соединенных Штатах – в правительственных кругах, на Уолл‑стрит, в банках, среди прогнозистов в сфере экономики. Выгоды от падавших цен на нефть (более высокие темпы роста и снижение инфляции) перевешивали потери (проблемы энергетических отраслей промышленности и района Юго‑Запада). Но это было верно только до какой‑то определенной поры, по крайней мере, с новой точки зрения. На каком‑то уровне цен, тяготы и нарушения в финансовой системе, наряду с положением политиков, начали бы устранять преимущества, и этот уровень, как все соглашались, находился где‑то между 15 и 18 долларами. Рейгановская администрация поощряла все усилия, предпринимавшиеся для возвращения цены примерно к 18 долларам за баррель. Такая цена дала бы сильный толчок экономическому росту, одновременно помогая обуздать инфляцию, с ней также могла бы прожить и нефтяная промышленность, что в огромной мере сократило бы давление за принятие тарифов. В результате администрация поддерживала бы приверженность к „свободному рынку“ и могла бы не предпринимать никаких действий. После рассмотрения всех этих факторов самым желательным было ничего не предпринимать.
Но одним делом было достижение консенсуса, а принятие нового курса – совершенно другим. И все усилия в этом направлении уходили в песок, даже когда потеря доходов больно ударяла по многим экспортерам нефти. Те арабские страны Персидского залива, которые резко повысили объемы продаваемой ими нефти, страдали меньше всех. Доходы Кувейта сократились только на 4 процента, Саудовской Аравии – на 11 процентов. Больше других это сказывалось на ценовых ястребах, которыми были страны, наиболее воинственно и враждебно относившиеся к своим западным клиентам. Нефтяные доходы Ирана и Ливии в первой половине 1986 года упали на 42 процента по сравнению с тем же периодом в 1985 году. У Алжира – даже больше этого. И не только из‑за причин экономического характера. В наихудшем положении был Иран. Даже при сокращавшихся доходах ему приходилось финансировать войну с Ираком, которая вступила в новую, более напряженную фазу. Иракская воздушная война против танкеров и нефтепромыслов наносила все большие потери возможностям иранского экспорта. Как мог Иран, не имея денег, успешно продолжать священную войну аятоллы Хомейни против Ирака и лично против Саддама Хусейна?
Что– то в самом скором времени следовало предпринять. Саудовская Аравия, поддерживавшая свою нефтедобычу на уровне своей прежней квоты, теперь давала понять, что она начнет поднимать ее до более высокого уровня. При этом на рынок поступил бы еще больший объем нефти. В июле 1986 года сырая нефть Персидского залива шла по 7 или ниже долларов за баррель. Положение было крайне тяжелым, и лидеры Саудовской Аравии и Кувейта стремились во что бы то ни стало положить конец „хорошей встряске“. Их также беспокоили перспективы получения доходов. Более того, неустойчивость и неопределенность конъюнктуры также вызывали нервозность, обещая повышение политического риска во всем мире. Практически все главные представители ОПЕК пришли к выводу, что стратегия возвращения доли рынка потерпела неудачу, по крайней мере в краткосрочном плане. Но как отказаться от нее и не попасть снова в тот же переплет, который первоначально ее и вызвал? Единственным путем было введение квот. Но как они распределятся? Некоторые экспортеры настаивали, чтобы Саудовская Аравия снова взяла на себя функции балансира, на что Ямани ответил: „Ни за что в жизни. Мы выступаем в качестве балансира либо все вместе, либо вообще отказываемся от этого. На этом я настаиваю так же упрямо, как Маргарет Тэтчер“. К июлю эксперты ОПЕК разработали на бумаге подробное обоснование новых цен: уровень в 17–18 долларов за баррель улучшит экономические перспективы в мире, стимулируя потребление нефти, и, по их мнению, „возможно, послужит эффективным механизмом в замедлении или остановке темпов создания энергозаменителей“, а также „определенно воспрепятствует дальнейшему проведению дорогостоящих программ разведочных работ“. При снижении же цен ниже этого уровня экспортеры окажутся на грани серьезного риска – вероятного „принятия главными странами‑потребителями сильных протекционистских мер“, в том числе „введения тарифов на импорт нефти в Соединенные Штаты и Японию“. Эксперты ОПЕК гораздо лучше американцев помнили результаты ограничений на импорт, которые ввел Эйзенхауэр.
Все же нерешенным оставался вопрос квот, а это требовало возобновления сотрудничества несговорчивых стран ОПЕК. Тем не менее, когда в конце июля – начале августа 1986 года ОПЕК собралась на свое очередное совещание в Женеве, надежды на то, что удастся достигнуть какого‑то соглашения, было мало. Наиболее резко выступал против введения квот Иран. Неожиданно в апартаментах Ямани появился для частного обсуждения этого вопроса иранский министр нефти Голам Реза Ага‑заде. Он говорил через переводчика. Ямани был настолько поражен его словами, что попросил переводчика перевести их снова. Перевод был точен: Иран, сказал министр, теперь проявляет желание добровольно принять временные квоты, на которых настаивают Ямани и другие представители. Иран, по сути дела, отказывался от своей прежней позиции. Его нефтяная политика была более прагматичной, чем его внешняя политика.
Стратегия завоевания доли рынка закончилась. Но, объявляя восстановление квот, ОПЕК настаивала, что это бремя не должно лечь только на ее плечи – его должны разделить и не входящие в ОПЕК страны. И впоследствии были выработаны соглашения, в которых эти страны указывали, что они выполнят свою часть обязательств. Мексика сократит свою нефтедобычу. Не допускать роста нефтедобычи (но не сокращать ее) обещала Норвегия. По крайней мере, это было уже что‑то. Советский Союз по большей части воздерживался от дискуссий. В мае 1986 года один его высший представитель по энергетике высмеял саму идею, что Советский Союз будет когда‑либо официально сотрудничать с ОПЕК. Советский Союз, сказал он, это – не страна „третьего мира“, „мы не производим бананы“. Отчасти это было верно: бананы в Москве не росли. Но бананы или не бананы, а советские должностные лица видели свой баланс торговых счетов, и потеря доходов в твердой валюте при продаже газа и нефти, если так будет продолжаться, оказалась бы губительной для осуществления планов реформирования и оживления стагнировавшей советской экономики, которые только что начали формулироваться при Горбачеве. Так что Советский Союз обещал принять участие в усилиях ОПЕК, сократив свою нефтедобычу на 100000 баррелей в день. Обещание было несколько туманным и определить размеры советского экспорта было достаточно трудной задачей, так что страны ОПЕК не были уверены, выполняют ли русские свое обещание. Но в данной ситуации важна была и символическая готовность к сотрудничеству. Следующим шагом ОПЕК ослабить „хорошую встряску“ было формализировать квоты и сделать что‑то в отношении цены. Но на пути к этому была еще и интерлюдия6.ИГРА НА СЛУХ
В сентябре 1986 года Гарвардский университет отмечал 350‑летие своего образования. Подготовка к этому знаменательному событию велась уже несколько лет. Оно должно было продемонстрировать всему миру место Гарварда в жизни Америки и его вклад в распространение знаний. Для празднования юбилея не останавливались ни перед чем, начиная с погони за блестящими, отмеченными Нобелевской премией именами и до выпуска специальных сувенирных шоколадок. Венчать церемонию должны были выступления двух человек – их Гарвард выбрал из пяти миллиардов жителей планеты. Одним был принц Чарлз, наследник британской короны. В конечном счете, ведь именно из Англии эмигрировал Джон Гарвард в Массачусетс, где в 1636 году он завещал свою коллекцию из трехсот книг небольшому колледжу, которому впоследствии было присвоено его имя. Другим оратором был министр нефти Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани – он учился в течение года в Гарвардской школе права, а теперь делал щедрые пожертвования в исламскую коллекцию университета. Делегация от Гарварда даже вылетала в Женеву, чтобы вручить ему приглашение, которое он принял.
Жизнерадостный принц Чарлз произнес веселую и забавную речь, восхитившую всех присутствовавших. Ямани, однако, предпочел выступить с очень обстоятельным и серьезным рассуждением, насыщенным цифрами, точными до сотых долей. Текст его выступления был роздан заранее, когда приглашенные рассаживались в переполненной аудитории „Арко“ в Школе менеджмента, носившей имя Кеннеди. Таким образом, они могли следовать за его словами по тексту. Это была речь, соответствующая такому торжественному событию, говорившая о перспективах, открывающихся после бурных, потрясших мир событий 1986 года, изменивших все экономические показатели. Одновременно она была и объяснением, и оправданием. Произнося ее слова мягким журчавшим шепотом и лишь изредка позволяя себе слегка улыбнуться или сделать небольшое отклонение от текста, Ямани вспоминал свои битвы за цены с нефтяными компаниями в начале семидесятых, а в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов – со своими братьями в ОПЕК. Он говорил о том, как необходимы стабильность и признание за нефтью статуса „особого товара“, а также обещал возврат к такому уровню стабильности, когда цена составит 15 долларов за баррель при постепенном повышении и цены, и объема нефтедобычи ОПЕК. Это было видение очень упорядоченного мира. Интересно, верил ли он на самом деле в такую возможность?
В конце выступления Ямани согласился ответить на вопросы. Последним с места поднялся высокий задумчивый профессор, сказавший, насколько трудным и вызывающим споры вопросом является определение энергетической политики в Соединенных Штатах: конгресс сражается с президентом, сенат с палатой представителей, различные ведомства друг с другом и т. д. Легче ли этот вопрос решается в Саудовской Аравии? Не расскажет ли господин министр о процессе определения нефтяной политики у него в стране? Четко и без малейшего колебания Ямани произнес: „Мы подбираем мелодию на слух.“
В аудитории раздался дружный хохот. Это был очень остроумный, краткий и вместе с тем исчерпывающий ответ – он говорил об импровизации в приня тии решений, о действиях в зависимости от обстоятельств, что, кстати, было характерно не только для саудовского правительства. Все же он был несколько странным для человека, провозгласившего себя сторонником мышления долгосрочными категориями, человека, который четверть века находился в центре принятия решений в мире нефти. В то время никто из присутствовавших не предполагал, что эти слова станут одними из последних официальных высказываний Ямани.
Примерно через месяц, в октябре Ямани участвовал в совещании в Женеве, где обсуждались следующие шаги в перестройке ОПЕК. Его позиция соответствовала полученным им инструкциям: Саудовская Аравия намерена не только защитить свою квоту и обеспечить объем нефтедобычи, но и добиться установления более высокой цены – 18 долларов согласно консенсусу. Однако это расходилось с ценой в 15 долларов, которую Ямани назвал в Гарварде. Теперь же Ямани пошел настолько далеко, что полуофициально заявил, что добиваться одновременно повышения и объема, и цены – противоречит одно другому. И это означало открытое выступление против политики, провозглашенной королем. Тем не менее Ямани делал все от него зависящее, и в результате была, по сути дела, пересмотрена система квот. Через неделю после совещания, когда он уже вернулся в Эр‑Рияд и вечером ужинал с друзьями, ему позвонили и посоветовали посмотреть по телевизору выпуск новостей. В конце передачи скупо и без каких‑либо объяснений сообщалось, что от должности министра нефти „освобожден“ Ахмед Заки Ямани. Так он узнал, что его уволили. Ямани занимал этот пост двадцать четыре года – плодотворный и длительный период в любой должности где‑либо. Все же это был внезапный, странный и обескураживающий конец карьеры, длившейся четверть столетия.
Причины его увольнения и так, как оно произошло, стали предметом самого пристального обсуждения в Саудовской Аравии и во всем мире. Как и следовало ожидать, выдвигалось множество версий, и многие из них были крайне противоречивы: он поставил в щекотливое положение королевскую семью, не только не выполнив данные ему инструкции, но и выступив с критикой самой их сути; он нажил себе сильных врагов, выступая против бартерных сделок; его увольнение отразило отход от тех направлений политики, с которыми он был официально связан. Говорили также, что в Эр‑Рияде вызывало резкое недовольство то, что некоторые называли его высокомерием, покровительственной манерой держаться, раздражали также его высокие профессиональные качества, известность и уважение за пределами Саудовской Аравии. Ямани оставался человеком Фейсала, хотя Фейсал был мертв уже около одиннадцати лет. Теперь королем был Фахд, и автором нефтяной политики был он. К 1986 году у Ямани осталось очень мало союзников, в то же время многие министры и советники считали, что он узурпирует их власть. И вообще, говорили некоторые, Фахд просто не любил Ямани.
Возможно, к падению Ямани привели в конечном счете сначала снижение, а затем резкий обвал цен на нефть. Но был и еще один специфический момент, касавшийся гарвардской речи. До этого события в Эр‑Рияде считали, что Ямани просто скажет несколько общих слов, более или менее без подготовки, а не выступит с серьезным политическим заявлением. Но речь в 17 страниц никак не вписывалась в рамки непринужденного приветственного слова. Более того, ее политическая направленность не отличалась, скажем так, точным совпадением с официальной политикой Саудовской Аравии. А ответ на последний вопрос – не очень понятное в Саудовской Аравии идиоматическое выражение – интерпретировался в Эр‑Рияде как резкая критика саудовского правительства. Так что Ямани вернулся к частной жизни: управлению своим состоянием, учреждению научно‑исследовательского института в Лондоне, поискам швейцарского часовщика, руководству парфюмерной фабрикой в Таифе, чтению лекции в Гарвардской школе права и, что неудивительно, время от времени к комментированию событий в мире нефти.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦЕНЫ
В декабре 1986 года совещанию стран ОПЕК в Женеве наконец удалось остановить „хорошую встряску“. Это было первое главное совещание, на котором появился новый министр нефти Саудовской Аравии Хишам Назир. Он, как и Ямани, принадлежал к первому поколению саудовских технократов. Всего на два года моложе Ямани, он окончил Калифорнийский университет в Лос‑Анджелесе и затем был заместителем Абдаллы Тарики, первого саудовского министра нефти. Затем он много лет служил министром планирования и поэтому особенно внимательно прослеживал связь нефти и национальной экономики, а также вопрос суммарных доходов страны, наиболее тревожный для Эр‑Рияда. И он не принимал никакого участия в теперь уже отвергнутой стратегии завоевания рынка и, следовательно, не нес за нее никакой ответственности.
Главным вопросом на совещании в Женеве было восстановление прежних доходов. Экспортеры согласились на принятие „ориентировочной цены“ в 18 долларов, основанной на составной цене нескольких различных сортов сырой нефти. Они также договорились о принятии квоты, которая, как они надеялись, поддержит ее. Однако здесь оставалась одна лазейка. В свете продолжавшейся войны между Ираном и Ираком и роста иракского экспорта прийти к договоренностям между этими странами по размеру иракской квоты оказалось невозможным. Так что принятая квота распространилась не на тринадцать, а на двенадцать стран ОПЕК. Ирак остался в стороне и мог действовать, ориентируясь на свои возможности. Он снова, как и в прошлые периоды, начиная еще с 1961 года, временно вышел из ОПЕК. Все же „номинальная“ квота была ему установлена – 1,5 миллиона баррелей, что доводило общую нефтедобычу до 17,3 миллиона баррелей в день.
К удивлению многих, рамочные соглашения, хотя и претерпев значительные изменения, сохранялись на протяжении 1987, 1988 и 1989 годов и в условиях повторявшегося и иногда очень резкого нажима рынка. Конечно, цена ОПЕК была не 18 долларов, а большей частью где‑то в пределах между 15 и 18 долларами. Она была неустойчива, и временами казалось, что система квот вот‑вот рухнет. Но производители, учитывая стоящую перед ними альтернативу, принимали меры для ее сохранения. В конце концов страны ОПЕК ведь уже испытали на себе всю тяжесть „хорошей встряски“, и этого с них было достаточно.
Новые цены на нефть, установленные на более низком уровне, полностью свели на нет повышения, возникшие после второго нефтяного кризиса в 1979–1981 годах. Экономические выгоды для потребителей были огромны. Если дваценовых нефтяных кризиса семидесятых годов дали „налог ОПЕК“ – огромный перелив богатства от потребителей к производителям – то обвал цен явился „сокращением налога ОПЕК“, то есть перекачку только в одном 1986 году 50 миллиардов долларов обратно к странам‑потребителям. Этот налогоый убыток стимулировал и увеличивал по времени период экономического роста в странах индустриального мира, начавшегося четырьмя годами ранее, и одновременно снижал инфляцию. Так что можно было считать, что в экономическом выражении длительный кризис определенно закончился.
ИРАН ПРОТИВ ИРАКА: ОБРАТНАЯ ВОЛНА
Однако в политическом и стратегическом плане по‑прежнему сохранялась серьезная угроза – казавшаяся нескончаемой ирано‑иракская война могла перерасти в более широкий конфликт, а это в свою очередь поставило бы под угрозу нефтедобычу и поставки во всем регионе, не говоря уже о безопасности самих нефтяных государств. В 1987 году продолжавшаяся уже седьмой год война вышла за рамки двустороннего конфликта и впервые приобрела международный характер, затронув интересы других арабских государств Персидского залива и двух супердержав. Годом ранее Иран захватил полуостров Фао – самую южную оконечность Ирака, граничащюю с Кувейтом. Было похоже, что Фао может открыть путь к захвату иракского города Басра, создавая тем самым потенциальную возможность для расчленения и исчезновения целостного иракского государства, образованного после Первой мировой войны с помощью Великобритании. Но иранцы, захватив Фао, не смогли продвинуться дальше, застряв в болотистых песках, и были заблокированы усиленными частями иракской армии. После этого сражения в войне наметился перелом. Успехи Ирака в воздухе и ракетные удары по иранским транспортам в Персидском заливе – „танкерная война“ – привели к увеличению числа ударов Ирана по танкерам третьих стран. Иран обрушился на Кувейт, который помогал Ираку. Силы Хомейни не только топили приходящие и уходящие из Кувейта суда, но и нанесли по крайней мере пять ракетных ударов непосредственно по Кувейту.
Как и другие арабские государства, Кувейт серьезно воспринял кампанию Соединенных Штатов против продажи оружия революционному Ирану. Тем большую тревогу вызвали у него сообщения, что Соединенные Штаты тайно продавали оружие Ирану, надеясь добиться освобождения находившихся в Ливане американских заложников и начать каким‑то образом диалог с „умеренными“ в Тегеране, кто бы их ни представлял. Эти утечки информации в огромной степени усилили врожденное чувство неуверенности в своей безопасности в этой маленькой стране. И тем не менее именно ракетные удары Ирана заставили Кувейт в ноябре 1986 года обратиться к Соединенным Штатам и просить защиты для своих транспортов (хотя американский посол в Кувейте позднее утверждал, что он передал эту просьбу Кувейта еще летом 1986 года). Вашингтон был буквально взбешен, когда там узнали, что кувейтяне приняли дополнительные меры защиты, обратившись за помощью к русским. И когда эта информация дошла до высших должностных лиц рейгановской администрации, просьба Кувейта, как выразился один из них, „не была задержана“. Возможные последствия обращения за помощью к Москве послужили основанием для быстрого ответа. Участие русских расширило бы их влияние в зоне Персидского залива – влияние, которого американцы старались не допускать уже свыше четырех десятилетий, а англичане – не менее чем 165 лет. Но дело было не только в соперничестве Восток‑Запад. Одновременно с этим было признано необходимым защитить поток нефти со Среднего Востока.
Сам президент Рейган говорил не только о необходимости самообороны в районе Персидского залива, но также и подтверждал, что США будут обеспечивать защиту потока нефти. В результате в марте 1987 года рейгановская администрация, стремясь вытеснить русских из региона, сообщила кувейтянам, что Соединенные Штаты готовы либо взять на себя полную смену флагов на кораблях, либо вообще отказаться от защиты. США не хотели допустить „половинчатого“ участия русских. Таким образом, на одиннадцати кувейтских судах стал развиваться звездно‑полосатый флаг, что давало основание на сопровождение их военно‑морским эскортом. А через несколько месяцев Персидский залив уже патрулировали корабли Соединенных Штатов. Русским же оставалось только зафрахтовать несколько своих танкеров для отправки в Кувейт. Для защиты свободы навигации в воды Персидского залива также вошли морские соединения Великобритании и Франции наряду с кораблями из Италии, Бельгии и Голландии. Японцы, которым их конституция запрещала посылать корабли, но которые находились в исключительно большой зависимости от нефти из этого региона, также внесли свою лепту, увеличив фонды, которые они выделяли для сокращения американских расходов по содержанию сил США в Японии, и вложив средства в установку локационной системы повышенной точности в Ормузском проливе. Западная Германия перевела некоторые свои морские суда из Северного в Средиземное море, высвобождая, как она сказала, американские корабли для несения службы в Персидском заливе и вокруг него. Но при той главной роли, которую взяли на себя Соединенные Штаты в этом регионе, теперь возникла угроза серьезной военной конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном.
К весне 1988 года Ирак, применяя химическое оружие, начат явно выигрывать войну. С другой стороны, возможности и желание Ирана продолжать войну быстро таяли. Его экономика лежала в руинах. Военные поражения и людские потери уменьшали поддержку режима Хомейни. Добровольцев, вступавших в армию по религиозным соображениям, больше не было. Страну охватила военная усталость, за один месяц только на Тегеран упало 140 иракских ракет.
В Иране среди тех, кто добивался власти и хотел занять после Хомейни его место – аятолла был стар и серьезно болен – был Акбар Хашеми Рафсанджани, спикер иранского парламента и заместитель командующего сухопутными силами. Он принадлежал к богатой семье владельца плантации фисташек, чье состояние в семидесятых годов, еще при шахе, увеличилось за счет тегеранской недвижимости. Сам он был клерикалом, учеником и последователем Хомейни и с 1962 года находился в антишахской оппозиции. Проявлявший инициативу и активно участвовавший в переговорах с Соединенными Штатами под лозунгом „оружие за заложников“, он избежал критики в свой адрес и, прокладывая себе путь через теократические дебри иранской политики, заслужил прозвище „кусех“ – „акула“. Он был вторым после Хомейни лицом, принимавшим решения в Исламской республике. И он пришел к выводу, что пора искать пути для прекращения войны. У Ирана больше не было шансов одержать победу. Военные расходы были огромны и конца им не было видно. Режиму аятоллы, как и его собственным перспективам, угрожали продолжавшиеся потери. Более того, Иран находился в дипломатической и политической изоляции, в то время как Ирак, по‑видимому, набирал силу.
К тому же американское военное присутствие в Персидском заливе, в сущности, привело к серьезной конфронтации с Ираном, но теперь уже неожиданного и трагического характера. В начале июля 1988 года при столкновении с военными кораблями Ирана американский эскадренный эсминец „Винсенс“ принял иранский аэробус с 290 пассажирами на борту за вражеский самолет и сбил его. Это была трагическая ошибка. Однако в иранском руководстве некоторые увидели в этом не ошибку, а сигнал, что Соединенные Штаты перестают церемониться и готовятся использовать свою огромную военную силу для прямой военной конфронтации с Ираном, чтобы свергнуть существующий в Тегеране режим. Иран, уже ослабленный войной, вряд ли смог оказать сопротивление. Он больше не мог позволить себе идти против Соединенных Штатов. Более того, после инцидента с самолетом, Иран, безуспешно стараясь получить дипломатическую поддержку, обнаружил, насколько сильна образовавшаяся вокруг него политическая изоляция. Все эти факторы еще более усиливали необходимость пересмотреть упорную позицию Ирана продолжать войну.
И все же Рафсанджани приходилось по‑прежнему считаться с неукротимой ненавистью аятоллы Хомейни, для которого мщение, в том числе получение головы Саддама Хусейна, было ценой мира. Но для окружения Хомейни реальность положения Ирана была очевидна, и Рафсанджани в конечном счете одержал победу. 17 июля Иран информировал Организацию Объединенных Наций о своем желании пойти на перемирие. „Принятие этого решения было равносильно принятию смертельного яда, – заявил Хомейни. – Я подчинил себя воле Бога и выпил этот напиток ради его удовлетворения“. Но жажда мести не оставляла Хомейни. „Если Бог даст, придет день, когда мы выльем боль наших сердец и отомстим аль‑Сауду и Америке“, – добавил он. Аятолле не суждено было увидеть этот день – не прошло и года, как он умер.
После послания Ирана в ООН прошло еще четыре месяца и было проведено множество переговоров прежде, чем Ирак согласился на перемирие. Наконец 20 августа 1988 года оно вступило в силу, и Ирак сразу же приступил к символическим поставкам нефти из своих портов в Персидском заливе, чего он был лишен в течение восьми лет. Иран объявил о своем намерении заново построить огромный нефтеперерабатывающий комплекс в Абадане, который в начале столетия явился исходным пунктом развития всей нефтяной промышленности на Среднем Востоке, а в 1980 году, в первые же дни войны был почти полностью разрушен. Ирано‑иракская война закончилась тупиковой ситуацией, хотя и в пользу Ирака. И теперь Ирак, выиграв войну, намеревался стать главной политической силой в зоне Персидского залива и одной из главных мировых нефтяных держав. Но окончание ирано‑иракской войны имело и гораздо более далеко идущие последствия. Казалось, что угроза свободному потоку нефти со Среднего Востока была наконец устранена, что с молчанием пушек вдоль берегов Персидского залива закончилась наконец эра кризиса в мире нефти, начавшегося с „октябрьской войной“ пятнадцать лет назад вдоль берегов другого водного пути – Суэцкого канала.
На приход новой эры указывал не только конец войны. Об этом говорили также менявшиеся взаимоотношения стран‑экспортеров и импортеров нефти. Важнейший, вызывавший споры вопрос суверенности ресурсов был решен – теперь экспортеры владели своей нефтью. В восьмидесятые годы для них приобрел не меньшее значение другой вопрос – надежный доступ к рынкам. Обнаружив, что страны‑потребители обладают большей гибкостью и более широким выбором, чем можно было ранее предполагать, страны экспортеры поняли, что „безопасность спроса“ не менее важна для них, чем „безопасность поставок“ для потребителей. Теперь большинство экспортеров хотели подтвердить, что они являются надежными поставщиками и что нефть – это надежный энергоноситель. Разрешение проблемы суверенности ресурсов, дурная слава социализма, а также уходившая в прошлое конфронтация Север‑Юг, позволили экспортерам действовать, исходя в большей степени из экономических, а не политических соображений. В поисках капитала некоторые снова открывали свои двери для проведения разведочных работ в пределах своих границ частным компаниям – двери, которые были наглухо захлопнуты в семидесятые годы.
Другие пошли еще дальше, по мере того как набирала силу логика интеграции – этот важный побудительный мотив в истории нефтяной промышленности. Они снова стремились как можно плотнее притянуть резервы к рынкам. Государственные компании некоторых стран‑экспортеров, следуя по историческому пути, проложенному частными компаниями, обратились к перекачке, чтобы приобрести возможности для сбыта. „Петролеос де Венесуэла“ создала большую систему переработки и сбыта в Соединенных Штатах и Западной Европе. Кувейт сосредоточил свои действия на создании интегрированной нефтяной компании с нефтеперерабатывающими предприятиями в Западной Европе и тысячами бензоколонок в других европейских странах, действующих под торговой маркой „Ку‑8“. На этом Кувейт не остановился. В 1987 году Маргарет Тэтчер отказалась от исторического решения Уинстона Черчилля, принятого им в 1914 году, и продала принадлежавший государству 51 процент акций „Бритиш петролеум“. С ее точки зрения, они больше не служили каким‑либо национальным целям, и, кроме того, правительство было радо получить наличные деньги. При этом Кувейт приобрел 22 процента акций „Бритиш петролеум“ – той самой компании, которая наряду с „Галфом“ проводила разведочные работы и до 1975 года владела кувейтской нефтью. Британское правительство было разъярено и заставило Кувейт сократить его долю владения до 10 процентов.
Почти в то же время, когда закончилась ирано‑иракская война, Саудовская Аравия и „Тексако“, один из самых ранних партнеров „Арамко“, объявили о создании нового совместного предприятия. Руководство „Тексако“ было обеспокоено не только сиюминутными трудностями компании – а именно выплатой 10 миллиардов долларов согласно решению техасского суда компании „Пеннзойл“ за захват „Гетти“ – но и улучшением долгосрочных перспектив для себя в мире нефтяной промышленности. Со своей стороны, Саудовская Аравия хотела обеспечить себе гарантированный доступ к рынкам. По условиям их новой сделки Саудовская Аравия приобрела половину доли в нефтеперерабатывающих предприятиях „Тексако“ и ее бензоколонках в 33 восточных и южных шта тах Америки. Сделка гарантировала саудовцам – если им потребуется – продажу в США 600 тысяч баррелей в день – и это по сравнению с ручейком в 26 тысяч баррелей в день, к которому они пришли в 1985 году накануне обвала цен. Такая „реинтеграция“ представляла собой попытку вернуть большую долгосрочную стабильность в отрасль и противостоять риску, с которым сталкивались и производители, и потребители.
Через несколько месяцев после ирано‑иракского перемирия Джордж Буш, бывший нефтепромышленник, стал президентом США, сменив на этом посту Рональда Рейгана. С окончанием восьмидесятых – началом девяностых годов при поразительном крушении барьеров, как символических, так и фактических, которые так долго разъединяли страны советского блока и западные демократии, появились невиданные ранее возможности для укрепления мира в масштабах всей планеты. Как предсказывали некоторые аналитики, конкуренция между странами уже больше не будет идеологической, а станет главным образом экономической – это будет борьба за продажу товаров и услуг и управление капиталом на подлинно международном рынке. Если это действительно произойдет, то нефть несомненно останется жизненно важным продуктом для экономик индустриальных и развивающихся стран. В качестве козыря в руках и производителей, и потребителей нефти она сохранит и первейшее значение в мировой политике.
И все же потрясения семидесятых и восьмидесятых годов преподнесли важные уроки. Потребители отучились смотреть на нефть – основу их существования – как на некую данность. Производители поняли, что рынки и клиенты не есть нечто само собой разумеющееся. Результатом этого стало установление приоритета экономики над политикой, упор на сотрудничество, а не на конфронтацию. По крайней мере так казалось.
Но будут ли помнить об этих основополагающих уроках с течением времени и уходом со сцены участников драматических событий и приходом на смену им новых игроков? В конце концов стремление к большому богатству и большой власти было присуще человечеству с самых первых дней его существования.
Однажды поздней весной 1989 года в ходе дискуссии, проходившей в Нью‑Йорке, министр нефтяной промышленности одной из главных добывающих стран, человек, который стоял в центре всех баталий семидесятых и восьмидесятых годов, подробно говорил о новом реалистическом мышлении, присущем и производителям, и потребителям нефти и об извлеченных ими уроках. В конце его выступления министра спросили, как долго эти уроки сохранятся в коллективной памяти. Этот вопрос оказался для него несколько неожиданным, и он, немного подумав, ответил: „Примерно года три, если об этом не напоминать“.
Всего лишь через год после этой встречи этот человек уже не был министром, а еще через месяц его собственная страна оказалась оккупированной иностранными войсками.
ЭПИЛОГ
Летом 1990 года весь мир все еще пребывал в эйфории по поводу окончания холодной войны и в преддверии нового, более устойчивого мирового порядка. А 1989 год действительно был „годом чудес“, поскольку именно тогда были заложены основы этого порядка. Противостоянию Востока и Запада был положен конец. Прекратили существование коммунистические режимы в Восточной Европе. Был разрушен и символ „холодной войны“ – Берлинская стена. В Советском Союзе шли процессы глубоких преобразований, вызванные не только политическими и экономическими переменами, но и взрывом национализма, который подавлялся на протяжении длительного времени. Демократия прочно заняла позиции в тех странах, где совсем недавно такая вероятность и не предполагалась, как абсолютно нереальная. Объединение Германии перестало быть абстрактной темой для упражнений в красноречии. Теперь это была неотвратимая реальность, и объединенная Германия стала европейской супердержавой. Япония стала признанной финансовой сверхдержавой мирового масштаба, а глобальные коллизии будущего виделись лишь в мировой конкуренции за деньги и рынки. Такая перспектива казалась столь приземленной, что многие говорили не только о конце холодной войны, но о „конце истории“.
Нефти по– прежнему уделялось много внимания с точки зрения охраны окружающей среды, в прочих же аспектах она становилась все менее важной, поистине „просто еще один товар“. Потребители были счастливы, поскольку цена на нефть была низкой. Фактически, американские автолюбители платили за бензин самую низкую цену за весь период после Второй мировой войны. Казалось, не предвидится никаких проблем с поставками нефти в долгосрочной перспективе, ведь мировые запасы нефти существенно увеличились – от 615 миллиардов баррелей в 1985 году до 917 миллиардов баррелей в 1990 году.
При всем самоуспокоении причины для беспокойства оставались. Мировые ресурсы заметно выросли, но все они были сконцентрированы у пяти основных производителей в Персидском заливе плюс Венесуэла. И при этом не имелось нефти из альтернативных, не‑ОПЕКовских, источников, как это было в случае с Аляской, Мексикой и Северным морем во время кризиса
1973 года. Доля мировых запасов нефти в Персидском заливе действительно возросла до 70 процентов.
С экономической точки зрения, ситуация с нефтью в меньшей степени походила на начало восьмидесятых годов, нежели на начало семидесятых, за которыми последовал нефтяной кризис 1973 года. Мировой рынок нефти уплотнился. Спрос рос достаточно энергично. Добыча в США с 1986 по 1990 года резко упала на два миллиона баррелей в день, что по объему больше, чем добыча Кувейта или Венесуэлы. Импорт нефти в США достиг самого высокого уровня, и продолжал расти. Мир откатывался к прежней зависимости от Персидского залива. „Резерв безопасности“ – разница между спросом и производственными возможностями сокращался, что делало рынок более уязвимым при конфликтах или чрезвычайных ситуациях. Такой резерв был достаточно большим лишь в начале и середине восьмидесятых годов, чтобы компенсировать падение объемов добычи во время ирано‑иракской войны, но никогда не позднее.
Насколько вырастут цены на нефть? Это зависело от того, насколько быстро в мире появятся новые добывающие мощности1. При низких ценах и вернувшейся уверенности по поводу надежности поставок, энергосбережение стало неактуальным. Несмотря на ту роль, которую она сыграла в конце семидесятых – начале восьмидесятых, теперь ничего не делалось для того, чтобы вернуться к нему. Поиски альтернативных источников заметно ослабли. Все это не казалось таким уж важным. И в дополнение ко всему, везде, в особенности, в Соединенных Штатах, не было подвижек, способных разрешить конфликт между потребностью в энергии и защитой окружающей среды. Энергетический кризис казался реликтом прошлого. На слушаниях в Сенате США весной 1990 года говорилось о том, что вероятность крупных срывов поставок нефти невелика, по крайней мере в течение нескольких лет. И некоторые аналитики объявили весной 1990 года, что в этом десятилетии нефтяной кризис невозможен.
НАСТУПЛЕНИЕ ИРАКА
В 2 часа ночи 2 августа 1990 года иллюзии растаяли. Стотысячная армия Ирака начала вторжение в Кувейт. Не встречая значительного сопротивления, иракские танки вскоре неслись в Эль‑Кувейт по шестиполосной автомагистрали. Так первым кризисом после холодной войны стал геополитический нефтяной кризис.
На протяжении нескольких предшествующих этому лет большинство экспортеров нефти пытались восстановить разрушенные в семидесятых годах связи со странами‑потребителями. Благодаря новым разведанным запасам, добывающие страны уже не беспокоились о том, что они быстро растрачивают истощающиеся ресурсы. Напротив, они хотели показать себя надежными поставщиками в длительной перспективе, убедить, что они без опасений могут считаться источником энергии для промышленно развитых стран, что на нефть можно полагаться. Нефти нужны рынки, а рынкам нужна нефть. Учет многосторонних интересов может стать основой стабильных, конструктивных, исключающих конфронтацию взаимоотношений, которые продолжатся в двадцать первом веке.
Ирак был одним из исключений. Он не скрывал враждебности по отношению к своим основным потребителям – к демократическим странам. В июле 1990 года диктатор Ирака – Садам Хусейн предупреждал Запад о том, что нефтяное оружие может быть использовано вновь. Несмотря на заверения о передовых взглядах, Садам Хусейн был на удивление анахроничной фигурой, неким атавизмом. Он утверждался посредством националистической риторики и яростью, присущими сороковым‑пятидесятым годам. Он говорил, что Иосиф Сталин является одним из примеров для него, и это в то время, когда Восточная Европа и Советский Союз пытались отмежеваться от наследия сталинского террора и лицемерия. Садам Хусейн сотворил собственный культ личности. Известна и его личная репутация как очень жестокого человека. На Ближнем Востоке ходили видеокассеты с записью расправы Хусейна над своими противниками, и с телами казненных офицеров армии, подвешенными на мясные крюки. Вооруженные силы Хусейна использовали отравляющий газ как против иранцев, так и против курдских женщин и детей на территории собственного государства. Когда один из западных визитеров в конце июня 1990 года напрямую задал вопрос о безжалостности Хусейна, тот вкрадчиво ответил: „Слабость не обеспечивает достижение целей, стоящих перед лидером“.
Начиная с 1985 года Ирак был одним из крупнейших покупателем оружия. Израиль уничтожил иракский комплекс по производству атомного оружия в 1981 году, но Ирак продолжал эти попытки, а также публично заявлял о наращивании арсенала химического оружия. Ирак был закрытым полицейским государством, но цели Садама Хусейна были очевидны: доминировать в арабском мире, добиться гегемонии в Персидском заливе, сделать Ирак господствующей нефтяной державой – и в конечном итоге, превратить Великий Ирак в военную державу мирового масштаба. Но в финансовом отношении Ирак испытывал огромные затруднения. Ирано‑иракская война, затеянная Садамом Хусейном, стоила стране полмиллиона погибших и серьезно раненных, и завершилась тупиком. А восемнадцатимиллионная нация продолжала содержать миллионную армию. Хусейну были нужны более высокие цены на нефть, и вскоре, в связи с тем, что Ирак рыскал по миру в поисках нового, более разрушительного и необыкновенного оружия, возникли проблемы с оплатой по международным счетам.
В июле 1990 года Ирак выдвинул стотысячную армию к границе с Кувейтом, который придерживался стратегии низких цен на нефть. Войска были частью войны нервов, инструментом новой роли Садама Хусейна как надзирателя, следящего за тем, чтобы такие страны как Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты соблюдали свои квоты, и чтобы цены ОПЕК были подняты. Предполагалось, что солдаты находятся там для устрашения Кувейта, с тем, чтобы решить в свою пользу пограничный спор, включающий большое нефтяное месторождение, а также передачу двух островов Ираку. Тем не менее, у Багдада на уме было нечто большее – это захват и аннексия всей страны. Это было основной принцип стратегической неожиданности: войска были там, их все видели, понимая, что они находятся там для устрашения, спутники проводили съемки, но при всем при этом вряд ли кто мог подумать, что войска будут использованы именно так. При вторжении члены королевской семьи покинули Кувейт, и маленькая страна оказалась в руках иракцев.
В оправдание своей акции Хусейн заявил, что Кувейт по праву принадлежит Ираку, и что западные империалисты захватили его. В действительности, история Кувейта восходит к 1756 году, за два десятилетия до того, как Соединенные Штаты провозгласили независимость, и, уж конечно, задолго до того, как образовался современный Ирак, собранный в 1920 году из трех провинций, на протяжении четырех веков бывших частью Оттоманской империи а до того, являлись периферией иных империй. Жители Кувейта выжили на протяжении двух веков благодаря своему уму и знанию как настраивать соседей и крупные державы друг против друга. И даже когда иракские войска сконцентрировались на границах, они считали, что смогут, как и в прежние времена перехитрить иракцев. Однако, на этот раз их застали врасплох.
В 1980 году начиная войну с Ираном, Садам Хусейн допустил огромный просчет, который мог стоить ему должности. Он предположил, что потребуется всего несколько недель, чтобы разгромить Иран. Он ошибался, и Ирак был близок к поражению. Десятилетием позже, в 1990 году, он решил, что сможет быстро поглотить Кувейт, и поставить мир перед свершившимся фактом, что вызовет лишь нарекания, и ничего более. Тем временем он решит свои финансовые проблемы за одну ночь и получит необходимые средства для финансирования своих грандиозных военных и политических амбиций. Он станет героем арабского мира, Ирак станет нефтяной державой номер один, и, хотят они этого или нет, западные страны должны будут ему поклониться.
Он допустил просчет еще раз. И это было второй неожиданностью. Протест против его акции был выражен с беспрецедентным единодушием в мировом сообществе и в большей части арабского мира. Соединенные Штаты воспользовавшись личными связями с руководителями других государств, наработанными Джорджем Бушем на протяжении двадцати лет, возглавили сосредоточения войск и координации противодействия. Это было столь успешное и удивительное достижение дипломатии, которого не мог ожидать Садам Хусейн и многие другие. Ираку не удалось осознать насколько сильно изменились интересы и положение недавнего союзника – Советского Союза. ООН сделала то, чего не удалось сделать Лиге Наций в тридцатые годы – наложить эмбарго для предотвращения агрессии. Опасаясь того, что следующей страной в перечне Хусейна может быть Саудовская Аравия, многие страны спешно направили свои вооруженные силы в этот регион. Американские войска были самой большой составляющей, подтверждая гарантии, изложенные в письме Гарри Трумена Ибн Сауду в 1950 году. Вторжение Ирака повергло ОПЕК в самый тяжелый из кризисов. Теперь на карту была поставлена не просто цена на нефть, а суверенитет и выживание наций, и большинство членов ОПЕК без обиняков сделали шаг навстречу в отношении увеличения добычи, с тем, чтобы компенсировать потерю добычи Кувейтом и Ираком, углубляя изоляцию Ирака и фактически выражая свое согласие с новыми взаимоотношениями с потребителями.
Рынок внезапно лишился четырех миллионов баррелей нефти из‑за разрушений и эмбарго, что сопоставимо с масштабами кризисов 1973 и 1979 годов. Степень неопределенности была высока и, как и в предыдущие кризисы, лишенные уверенности фирмы и потребители стали создавать запасы. Цены на нефть взлетели, и финансовые рынки обвалились. Близился новый кризис.
Возможные последствия могли быть ужасными для девяностых годов и двадцать первого века. Если бы Садаму Хусейну удалось удержать Кувейт, то он напрямую бы контролировал 20 процентов добычи ОПЕК и 25 процентов мировых запасов нефти, и смог бы угрожать соседним странам, включая прочих основных экспортеров нефти. Он мог бы стать господствующей державой в Персидском заливе, хорошо оснащенной для возобновления войны с Ираном. Он обладал бы экономической независимостью для того, чтобы предпринять и более серьезные шаги. Одиннадцать лет назад четыре из пяти основных добывающих стран Персидского залива были прозападными. Если Кувейт был бы поглощен Ираком, то осталось бы только две дружественные добывающие страны. Джордж Буш обобщил видение опасности, сказав: „Пострадают наша работа, наш образ жизни, наша собственная свобода и свобода дружественных стран во всем мире, если контроль над самыми крупными запасами нефти попадет в руки Садама Хусейна“.
Нефть вновь стала темой номер один. Вот так началось последнее десятилетие двадцатого века.
НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
Наш мир постоянно трансформируется под воздействием технологий и новшеств. Они дали импульс к распространению компьютеризации, глобальным системам связи, и „информационной экономики“, которая сейчас сосуществует с „промышленной экономикой“, унаследованной от девятнадцатого века. Лидерство и динамизм в современной экономике перешли к тому, что японцы называют наукоемкими отраслями промышленности. Тем не менее нефть остается движущей силой индустриального общества и источником жизненной силы цивилизации, которую она помогает создавать. Она по‑прежнему остается основой для самого крупного бизнеса в мире, который объединяет крайности риска и вознаграждения за него, а также взаимосвязь и конфликт между предпринимательством и корпоративным предприятием, а также между частным бизнесом и государственным. Нефть остается, как показали лето и осень 1990 года, существенной составляющей национальной мощи, основным фактором мировой экономики, причиной войны и конфликта, и решающей силой в международных отношениях.
А что впереди? Можно обозначить множество сценариев развития для будущего нефтяной отрасли и мира. Но, определенно, один из уроков в истории нефти, это следует ожидать неожиданного, „сюрприза“, который станет очевидным только после свершившегося факта. Насилие, войны, техногенные угрозы, политические коллизии, экономические императивы, этнические, религиозные, идеологические или социальные конфликты – все, что повлияет на доступ к нефти, может случиться внезапно. Но неожиданность может принять и другие формы. Это могут быть, например, и серьезные подвижки развития мировой экономики. Или это может быть технологический прорыв в получении альтернативной энергии, что уменьшит значимость нефти, который уже на подходе в некоторых американских, или, что более вероятно, в японских лабораториях. (Ведь к концу восьмидесятых годов японское правительство тратило больше денег на научно‑исследовательские работы в области энергетики, чем американское правительство). Неожиданное может возникнуть в связи с кризисом в окружающей среде, что приведет к серьезным изменениям в энергетики. Либо это может исходить из Советского Союза.
Политика Советского Союза может существенным образом повлиять на мировую энергетику в ближайшие годы. СССР является самым крупным производителем, с объемом добычи в 1989 году в два раза превышающим добычуСаудовской Аравии, и является вторым по величине после Саудовской Аравии экспортером. Время от времени в прошлом русская нефть доказывала свою мировую значимость, начиная с девятнадцатого века, когда развитие нефтяной промышленности в Азербайджане вокруг Баку ослабило мировую хватку „Стандард ойл“, а также возможную монополию западной Пенсильвании. Результатом революции 1905 года стало первое прекращение поставок нефти, вызванное политическими причинами. Большевики приступили к экспорту в двадцатых годах девятнадцатого века, спровоцировав мировую войну цен, которая привела к переговорам в Ахнакари Касл в Шотландии в 1928 году, и договору сохранения статус‑кво. В конце пятидесятых годов „наступление коммунистической нефти“, борьба Советского Союза за долю рынка, способствовала снижению цен, что привело к созданию ОПЕК.
Сейчас экспорт нефти (и газа) Советским Союзом является жизненно важным для его системы. Экспорт дает основной „урожай валюты“, более 60 процентов от общей валютной выручки, которая является необходимой для приобретения технологии и продуктов питания за рубежом. Но советская нефтяная отрасль находится в тисках кризиса, вызванного неэффективностью и низкой производительностью, плохой организацией и технологической отсталостью, расточительностью и пренебрежением к вопросам окружающей среды. „Политика в области энергетики была единственным разрушительным фактором в советской промышленности с середины семидесятых годов и одной из основных непосредственных причин спада и застоя советской экономики, – отмечал один из обозревателей. – Для реформаторов времен Горбачева никакой другой вопрос экономической политики не был столь сложным препятствием в реализации их планов“4. Накопившиеся проблемы и сокращение инвестиций обозначили приближение уже давно предсказываемого спада в добыче советской нефти. И если объем экспорта в значительной степени уменьшится, то последствия этого будут ощущаться во всем мире.
Советская нефтяная индустрия страдает от тех же беспорядков и деморализации, которым подвержено все советское общество в целом. Сейчас Советский Союз испытывает горячее желание привлечь западный капитал и технологии в нефтегазодобывающий сектор, что напоминает ситуацию времен НЭПа в начале двадцатых годов, когда Ленин предлагал выставить район вокруг Баку на международный аукцион. А западные компании проявляют заметный интерес. Советский Союз обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, и, считается, что запасы нефти также могут оказаться огромными. Но западным фирмам, то есть промышленно развитым странам мира, мешают дезорганизация, политические конфликты, отсутствие гибкости, беспорядок, неопределенность и риск, присущие всей советской системе. На сектор советской энергетики также оказывают влияние этнические конфликты, которые разразились в эпоху гласности, когда ослабла жесткая хватка коммунистического правления. В отличие от бурных дней девятнадцатого века, когда Баку был одним из двух крупнейших в мире источников нефти, сегодня советская Азербайджанская республика добывает менее чем три процента от общей добычи нефти в Советском Союзе, оставаясь при этом основным источником обслуживания и обеспечения промышленности всей страны. А гражданская война, разразившаяся между азербайджанцами и армянами в 1989 году, выглядит возвратом к кровавому насилию 1904 – 1905 годов, за исключением того, что на смену берданкам пришли АК‑47. Этот и прочие этнические конфликты могут завершиться так, что это серьезным образом скажется на добыче нефти, что, в свою очередь, уменьшит объем поступающей на мировой рынок нефти из Советского Союза. Беспокойство по поводу советской нефти, в избытке поступающей на мировой рынок, что стало причиной стольких значимых событий в истории нефтяной индустрии, в девяностых годах может быть вызвано прямо противоположной причиной – ее недостатком. Но в конечном итоге, если развитие будет продолжено, Советский Союз может стать и еще более значимым экспортером.
А если есть новые неожиданности, новые кризисы, то насколько хорошо мы готовы к ним? После нефтяного кризиса 1973 года, было ясно, что нефтяные компании не смогут и не сумеют справиться с будущими кризисами в одиночку, и что теперь эту роль предстояло взять на себя правительствам. За истекшие годы промышленные страны разработали систему энергетической безопасности на основе Международного энергетического агентства (МЭА) и стратегических запасов, таких как Стратегические нефтяные запасы США и аналогичных запасов Германии и Японии, которыми можно будет воспользоваться, чтобы восполнить дефицит и предотвратить панику. МЭА являет собой структуру, которая позволяет координировать меры и обеспечивать своевременный обмен точной информацией, что является абсолютным требованием для предотвращения паники подобного рода. Годы, последовавшие за нефтяными кризисами показали, что если рынку дать время, то он приспособится и укрепится. Эти годы также дали свидетельство тому, что правительства сумели противостоять искушению сразу же установить контроль за рынком, вплоть до микроэкономического уровня. Естественно, правительствам трудно воздержаться от действий, когда сильна неопределенность, нарастает паника и копятся обвинения. Тем не менее промежуток времени от начала пятидесятых годов до начала восьмидесятых, когда произошло пять крупных потрясений, показал, что система материально‑технического обеспечения и поставок способна адаптироваться до такой степени, что возникший дефицит был менее страшным, нежели это ожидалось. Фактически же, проблемой был не абсолютный дефицит, а нарушение системы поставок и путаница в вопросе собственности на нефть, что влечет за собой спешное преобразование системы в условии высокой нестабильности.
Даже если опыт подсказывает как поступать оптимальным образом, остаются другие очень важные вопросы. Во время нефтяного кризиса в семидесятые годы, политическая система США была парализована перед лицом одного из самых крупных и дорогостоящих потрясений в послевоенную эпоху. Вместо взвешенной реакции на весьма серьезную проблему в ход пошли озлобление, поиски виновных и „козла отпущения“. Уотергейт, конечно, был частичным объяснением. Тем не менее, зрелище такой фрагментарной, спорной реакции, для которой была характерна погоня за сиюминутными интересами, заставляет задуматься, как же Соединенные Штаты, уже после разрешения конфликта в Персидском заливе, будут реагировать в будущем на энергетические потребности и кризисы.
НОВЫЙ ПОРЯДОК
Садам Хусейн дал знать всему миру, что он вновь может „вынуть из ножен нефтяное оружие“. Но по иронии, это оружие обернулось против него, когда ООН наложила эмбарго на экспорт нефти из Ирака и оккупированного Кувейта. Так кто же сумеет удержать власть над нефтью в будущем: нефтяные компании, страны, добывающие нефть, правительства стран‑потребителей или, может быть, даже сами потребители? В то время как частные нефтяные компании по‑прежнему будут оказывать огромное влияние, благодаря своим масштабам и состоянию, они все же утеряли свою когда‑то уникальную силу. Времена Рокфеллера, Тигла и Детердинга давно минули. В Америке на протяжении всего двадцатого века, компании стали объектом пристального контроля, подозрений и недоверия. „Нефтяная промышленность похожа на лося, который пытается спрятаться на голой местности“, – говорил Роберт Андерсен, бывший председатель совета директоров „Арко“. „Мы не можем не высовываться“5. И одно это продолжает сдерживать мощь гигантов этой отрасли.
В дни процветания до и после Второй мировой войны, транснациональные нефтяные компании, как обвиняли их критики и противники, казалось, обладали всеми атрибутами независимых государств: особыми условиями торговли, множеством преданных граждан, богатством большим, чем у многих наций, своей внешней политикой, и даже собственным воздушным флотом. Это было в те дни, когда добывающие страны были слабыми или еще колониями, и когда лишь небольшое число компаний владело таинствами технологии, материально‑технического снабжения, рынками, капиталом и глобальным подходом. И это было время, когда компании имели сильную поддержку, или, по крайней мере, казалось, что имели таковую, со стороны правительств Великобритании и Америки. В послевоенные годы господству крупных компаний, их мощи способствовал также общий международный порядок, где лидерство отводилось США.
Однако, ослабление мощи этих компаний началось уже к концу пятидесятых годов, с появлением новых компаний в мире нефтяной индустрии – это были европейские государственные компании – „национальные старатели“ и независимые американские фирмы. Великобритания по мере деколонизации превращалась из имперской державы в торговое государство, обеспокоенное своим платежным балансом. Травма деколонизации определяла внешнюю политику Франции, до тех пор, пока этой стране не удалось найти новую роль в Европе. А в шестидеся‑тые‑семидесятые годы собственная мощь и влияние Америки на международный порядок, а также способность поддерживать его, были заметно подточены. Еще в большей степени нефтедобывающие страны урезали власть западных компаний в шестидесятые – семидесятые года, когда последним приходилось или подписывать новые соглашения, или подвергаться национализации либо просто экспроприации. Таким образом в начале девяностых годов международные нефтяные компании лишились былой политической власти, при том, что их коммерческое, а иногда и политическое влияние оставались весьма значительными. Но они уже не являлись выразителями воли одного человека, равно как их нельзя было сравнить и с беспощадным осьминогом. Теперь это крупные бюрократические корпорации, которые преодолевают риск в пределах корпоративной структуры, сидя на огромных денежных потоках, выступая в качестве подрядчиков на государственном уроне, пополняя свои счета в США, на Северном море и в других местах, привлекая технологии мирового класса, а также владея массой нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций.
Американские „независимые“, тем временем, стали чем‑то вроде вымирающих видов, по крайней мере во второй половине восьмидесятых годов, когда капитал стал покидать американские нефтяные месторождения. „Семи сестер“ Энрико Маттеи – а на самом деле их восемь, включая французского лидера СФП – уже не было. Персидский залив был успокоен, в то время как большинство других фирм – не только основных, но и поменьше, хотя тем не менее тоже крупных международных компаний – прошли через процесс сокращения бизнеса и ухода из некоторых регионов. Штаты претерпели значительное сокращение на всех уровнях: от руководства до „парня с бензоколонки“, ведь сейчас до 80 процентов бензина, продаваемого в США, приходится на АЗС с самообслуживанием. Более того, изменилась повестка дня. Вероятно, единственная сложная задача, с которой столкнулась нефтяная отрасль – это ни спрос, ни поставки, ни взаимоотношения между странами и правительствами, а усиливающиеся требования по защите окружающей среды, при выполнении в то же время своей традиционной работы поставщика энергии. И эта новая реальность вынудила всю индустрию занять оборону.
Крушение коммунизма и конец холодной войны означал кардинальный пересмотр международного порядка. Судя по всему, это вернет ведущее положение западным капиталистическим нациям, и определенно означает победу капитализма и частного предпринимательства. Но вряд ли это приведет к реставрации прежнего положения нефтяных компаний как мощной силы. По мере того, как нефть становится „одним из товаров“, нефтяная отрасль становится „одним из видов бизнеса“
Но чем же было нефтяное могущество для экспортеров в семидесятых годах, что определяло перегруппировку в международной политике и экономике? Со времени крушения „Стандард ойл траст“ в 1911 году, реальное богатство и власть исходили не столько от конца технологической цепочки – переработки и сбыта нефтепродуктов, а от самых истоков – владения и контроля над нефтяными месторождениями. И это означает, что сегодня главенствующее положение занимают компании‑экспортеры нефти, принадлежащие государству. Это разная по составу группа – „Сауди Арамко“, „Петролеос де Венесуэла“, „Пемекс“ в Мексике, „Кувейт петролеум кампани“ (во всяком случае до 1990 года),“Стат ойл“ в Норвегии, если назвать некоторых. Но, вероятно, нефть не так могущественна, как это воображалось. Если в семидесятые годы наличие нефти было почти равнозначно господству в мировом масштабе, то в восьмидесятые годы экономический успех Западной Германии и тихоокеанских стран доказал иное. В конце концов, Япония – новый мировой банкир и экономическая супердержава, импортирует более 99 процентов нефти. Экспортеры нефти смогли национализировать владения американских компаний в пределах своих границ, но ведь японские риэлторские фирмы, а не экспортеры нефти владеют зданиями „Экссон Билдинг“ в Нью‑Йорке и „Арко‑Билдинг“ в Лос‑Анджелесе. Падение шаха Ирака – олицетворения нефтяного могущества в семидесятые годы – показало, что рассчитать пределы и срок такой власти гораздо труднее, чем кажется. И в девяностые годы, пусть несколько иным образом, Кувейт осознал пределы этой власти перед лицом силы другого рода. Неужели же власть нефти – иллюзия, или это был результат определенного стечения экономических, политических и идеологических обстоятельств? Было ли это частным явлением, или же стало повторяющейся неотъемлемой частью международной жизни? Контроль над крупными источниками нефти, либо доступ к ним, издавна был стратегической целью. В этом не может быть сомнений Он позволяет нациям копить богатства, запитывать экономику, производить и продавать товары и услуги, строить, покупать, перемещаться, приобретать и производить оружие, побеждать в войнах. Тем не менее, этот приз нельзя переоценить. Более того, сама реальность существования мира, основой которого является нефть, ставится под вопрос.
ТРЕТЬЯ ВОЛНА БОРЬБЫ ЗА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Несмотря на то, что мир продолжал двигаться за счет нефти, а экономика – жить за счет нефти, „Углеводородному обществу“ был брошен, на это раз изнури, новый вызов, предвещающий великое столкновение, которое, возможно, окажет воздействие на нефтяную отрасль и, фактически, на весь наш образ жизни в обозримом будущем. Сейчас промышленно развитый мир вновь столкнулся с волной движения за защиту окружающей среды. Первая волна, в конце шестидесятых – начале семидесятых годов, ставила в центр внимания чистоту воздуха и воды, и носила заметный ярлык – „Сделано в США“. Она имела огромное значения для энергетики, поскольку дала мощный толчок для перехода с угля на нефть, что было одной из основных сил, которая столь быстро уплотнила мировой нефтяной рынок., подготавливая основу для кризиса 1973 года. В семидесятые годы, когда больше значения стало уделяться безопасности, и тяжелые для экономики времена заставили вновь сосредоточиться на работе и экономической эффективности, движение за защиту окружающей среды в некоторой степени утратило свою движущую силу. Его вторая волна ставила более узкие задачи, в большей степени концентрируясь на замедлении или прекращении развития атомной энергетики. И оно действительно преуспело в этом в большинстве промышленно развитых стран, решительно меняя то, что предполагалось в качестве главной альтернативы нефтяному кризису.
Мощная третья волна начала подниматься в восьмидесятых годах, и она все еще на пути к своему пику. Она получила широкую поддержку, несмотря на традиционные идеологические, демографические различия, а также различия в пристрастиях. Это международное явление, касающееся любого ущерба в окружающей среде – от вырубки влажных тропических лесов до утилизации отходов. Предметом заботы этого движения является ни что иное, как само качество нашей планеты6.
Вероятно, катализатором послужило одно решающее событие для новой волны движения за охрану окружающей среды апреля 1986 года, когда операторы ядерного реактора в Чернобыле, на Украине, потеряли управление им. Сам реактор расплавился в ядерном горниле, и облака радиоактивных частиц разносились ветром по широким просторам европейского континента. Первой реакцией советского правительства было полное отрицание факта, распространение заявления о том, что ядерная катастрофа – это измышление злобной западной прессы. Тем не менее, по истечению нескольких дней до Москвы доползли слухи о беспорядках на железнодорожном вокзале в Киеве, о массовой эвакуации, о смертях и катастрофе. Нарастала критика со стороны международной общественности. Тем не менее, покров молчания оставался, что подогревало спекуляции вокруг ужасной катастрофы. В конечном итоге, более чем через две недели после аварии, Михаил Горбачев выступил по телевидению. Его речь была совершенно нетипична для советского руководителя, и она коренным образом отличалась от того, как обычно Кремль общался со своим народом и остальным миром. Не было пропаганды, не было отрицаний, а было серьезное, горькое признание того, что печальный инцидент действительно произошел, но предпринимаются меры по удержанию контроля над ситуацией. Только тогда советский народ и остальной мир узнали о том, насколько невероятно опасными были первые несколько дней после аварии. Некоторые из советских руководителей впоследствии говорили о том, что именно Чернобыль был главной поворотной точкой к политике гласности и перестройки в СССР. Те, кто в Западной Европе клеймил помешательство западного капитализма на вопросах окружающей среды, были вынуждены пересмотреть свою идеологию. И в Восточной Европе, и в Советском Союзе, движение в защиту окружающей среды, стало одним из наиболее важных объединяющих лозунгов против коммунизма, и с полным основанием, поскольку с падением железного занавеса обнаружилось, что среди наследия времен циничного правления коммунистов были страшные экологические разрушения и катастрофы, некоторые из них, вероятно, уже необратимые. Экологические проблемы с большой степенью вероятности будут среди основных вопросов новых демократических парламентов Восточной Европы.
События в Чернобыле, чья угроза невидима, но несет смертельную опасность и предупреждение о том, что технология может выйти из‑под контроля, вызвали огромное доверие к новой волне движения за защиту окружающей среды. В США произошло еще одно важное событие, к счастью, без подобной опасности для здоровья и жизни людей. Это произошло в четыре минуты после полуночи, в Страстную пятницу, 24 марта 1989 года, когда супертанкер „Экссон Вальдес“ врезался в скалистый Блай Риф в Заливе Принца Уильяма на Аляске, разлив 240 тысяч баррелей нефти в этих кристально чистых водах. 2 миллиарда долларов, которые затем были потрачены на устранение последствий катастрофы, ничуть не помогли стереть пятно, оставленное „Вальдесом“ на политической карте. Авария танкера, произошедшая на фоне многих других инцидентов, придала сил возродившемуся экологическому сознанию, а также желанию многих людей променять производство энергии в пользу защиты окружающей среды. Это событие в 1989 года воздействовало на мировой энергетический баланс в конце девяностых годов настолько, что весы склонились против новых разработок нефтяных месторождений в США, приведя к еще большему объему импорта.
В вопросах экологии нефть имеет первостепенную важность, поскольку основную обеспокоенность вызывают последствия сгорания углеводородов – смог и загрязнение воздуха, кислотный дождь, глобальное потепление, недостаток озона. Вопросы, которые вызывают наиболее ожесточенные споры, касаются открытия новых территорий для добычи нефти и газа, независимо от того, находятся ли они в прибрежных водах, или на Аляске. Великие разногласия вызывали и вопросы расположения новых энергетических комплексов, в особенности, по производству электроэнергии. США и другие промышленно развитые страны смогли почувствовать ту значительную нагрузку, которой подвергаются системы снабжения электроэнергией в девяностые годы нашего столетия, оказавшись перед сложным и спорным выбором по поводу того, как удовлетворить растущую потребность в электроэнергии с меньшими потерями в экологии. Среди наиболее важных результатов экологического согласия будет переход на природный газ, как менее загрязняющий источник энергии, в особенности при производства электричества. Новое значение приобретет и энергосбережение, причем не только из соображений безопасности и ценовой политики, как это было в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, а как способ сдержать процесс сжигания углеводородов, и – выиграть время.
Новый перечень экологических проблем вряд ли пройдет без крупных сражений вокруг точности науки и ее прогнозов, вокруг степени риска, верных контрмер – и затрат. Несмотря на широко распространенное мнение, что улучшение окружающей среды по сути „бесплатное“, что это всего лишь вопрос нормативного регулирования, на деле это не так. Цена будет существенной, и ее легко будет определить. Экология, как оборона либо медицинское обслуживание или образование, является социальным „товаром“, и значит, кто‑то должен за это платить, а как только появляются затраты, сразу же возникает спор, как же следует поделить счет между фирмами, потребителями и правительствами. Общество пока еще не знает как распределить затраты между нынешними – например, дорогостоящими системами контроля за зафязнением на энергетических комплексах и предприятиях и будущим – почти непостижимыми затратами и развалом в сельскохозяйственном производстве и даже в среде обитания человека, которые могут возникнуть, если будет глобальное изменение климата.
Тем не менее девяностые годы начались не с какой‑либо экологической драмы, а с борьбы за нефтяные месторождения Персидского залива, от которых мир стал по‑прежнему сильно зависеть. Кризис в Персидском заливе вновь вернул на политическую повестку дня вопрос энергетической безопасности, вновь побуждая правительства заострять внимание на надежности поставок. Кризис послужил катализатором для разведки и разработки нефтяных месторождений во всем мире. По словам вдумчивого наблюдателя, Джозефа Станислава: „Правила гонки между растущим спросом и объемом добычи в девяностых годах претерпели изменения из‑за кризиса в Персидском заливе. Теперь надежные объемы добычи будут стоить больше“. Кризис вдохнет новую жизнь в задачи усовершенствования энергетики в промышленно развитых странах. Большая часть развитых стран обнаружат, что их захватило противостояние двух важнейших тем: энергии и безопасности и энергии и экологии. И неизбежным кажется столкновение между заботой о безопасности энергии и экономическом благосостоянии, с одной стороны, и опасениями за экологию, с другой, и это столкновение будет иметь далеко идущие последствия. Одной точкой, где два этих вопроса могут слиться воедино, может стать энергосбережение. Другой может стать более широкое применение природного газа. Наряду с этим необходимо единство мнений для решения экологических проблем и, одновременно, в такой же степени будет трудно выполнить требования безопасности, как внутри наций, так и между ними, как и достигнуть любой другой формы экономического, политического и социального сотрудничества. Но вдруг просто представим, что все это случайно сможет указать новое направление развития индустриального общества, указать на благоприятное разрешение конфликта между энергией и экологией. Есть потребность – появляются новшества, а при правильном подходе исследования и технологии станут ответом на экологические и энергетические императивы. Тем не менее, до того времени, как будет сделан новый технологический прорыв, возможно, в среде солнечной и восполнимой энергии, индустриальному обществу остаются три основных группы источников, на которые оно может положиться при новых потребностях в энергии: нефть, газ и уголь; атомная энергия; энергосбережение в форме технологических усовершенствований и более высокой эффективности использования энергии. В девяностых годах к преимуществам различных вариантов будут обращаться в дебатах по вопросам энергии и экологии, бросая вызов традиционным интересам и способам мышления. Столкновения будут принимать разные формы: образ жизни против качества жизни, рынки против контроля, регулирование против свободного развития, использования экономических целях против сбережения, зависимость против самостоятельности, сотрудничество против конкуренции между нациями, безопасность и экономический рост против экологии. На карту будут поставлены большие деньги, равно как и политическое положение и власть, не только внутри наций, но и на мировой арене. И вот таким будет образ нашей жизни. Действительно, когда судьба самой планеты, кажется, стоит под вопросом, углеводородная цивилизация, которую выстроила нефть, может быть сотрясена в самих основах.
ВЕК НЕФТИ
Крик, разнесшийся эхом в августе 1859 года по узким долинам западной Пенсильвании, о том, что сумасшедший янки, полковник Дрейк, нашел нефть, положил начало нефтяной лихорадке, которая так и не прекратилась. И впоследствии, во времена войны и мира, нефть приобретет способность создавать или разделять нации, и станет определяющим фактором в великих политических и экономических битвах двадцатого столетия. Но вновь и вновь сквозь непрерывные искания становятся очевидными, превратности, связанные с нефтью. Ее власть зависит от цены.
Почти через полтора столетия, нефть выявила все самое лучшее и самое худшее в нашей цивилизации. Она стала и благом, и обузой. Энергия – это основа индустриального общества. И из всех источников энергии нефть оказалась самым важным и самыым проблематичным из‑за своей центральной роли, из‑за стратегического характера, географического распределения, повторяющихся кризисов в ее поставках и неизбежного и неотразимого искушения даром захватить ее. Будет замечательно, если мы достигнем конца этого века не пытаясь проверить на прочность превосходство нефти политическими, техническими, экономическими или экологическими кризисами, отчасти прогнозируемыми, отчасти непредсказуемыми. Нельзя ждать меньшего от столетия, на формирование которого нефть оказала столь глубокое влияние. Ее история стала панорамой триумфов и литанией трагических и дорогостоящих ошибок. Это был театр благородного и низменного в человеческом характере. Творчество, самоотверженность, предприимчивость, смекалка, техническая изобретательность, сосуществовали с алчностью, коррупцией, слепыми политическими амбициями и грубой силой. Нефть помогла добиться господства над физическим миром. Она обеспечивает нашу повседневную жизнь и, буквально, через сельскохозяйственные химикаты и транспорт, и дает нам хлеб наш насущный. Она также разжигает мировые войны за политическое и экономическое превосходство. Во имя нефти было пролито немало крови. Неистовая, а иногда и жестокая борьба за нефть, за богатства и власть, которые она дает, будет, несомненно, продолжаться столь долго, сколько нефть будет удерживать свою центральную роль. Наш век – это век, в котором каждая грань цивилизации подверглась превращениям в горниле современной и завораживающей алхимии нефти. Наш век воистину остается веком нефти.
ИСТОКИ, УСТЬЕ, ВЕСЬ ПОТОК
Весь мир нефти делится на три части. „Истоки“ – это разведка и добыча. „Русло“ – танкеры и трубопроводы, которые доставляют сырую нефть на нефтеперерабатывающие комплексы. „Устье“ включает переработку, маркетинг и распределение – вплоть до АЗС и хозяйственного магазина. Компания, которая в значительной степени занимается всем от первого до последнего, называется „интегрированной“.
По общепризнанной теории, сырая нефть – это отложение органических веществ, в основном, микроскопического планктона, обитавшего в морях, а также наземных растений, которые накапливались на дне океанов, озер и прибрежных районов. Миллионы лет это органическое вещество, богатое атомами углерода и водорода, скапливалось под слоями отложений. Под воздействием давления и подземной температуры растительное вещество превращалось в углеводород – нефть и природный газ. Крохотные капли нефти перемещались через мелкие поры и разломы в скальных породах, до тех пор, пока они не скапливались внутри водопроницаемых пород, изолированные от остальных пород сверху – сланцами и снизу – более тяжелым пластом соленой воды. Обычно, в таких продуктивных пластах более легкий газ заполняет поры пород этого хранилища, служа своеобразной „пробкой“ для нефти. Когда наконечник бура проникает в пласт, более низкое давление внутри бура выталкивает нефть в скважину, а, затем, и на поверхность. „Нефтяные фонтаны“, как их называют в России, возникают из‑за неспособности (а, иногда и невозможности) регулировать давление поступающей нефти. По мере того, как добыча продолжается, подземное давление снижается, и скважины поддерживаются в рабочем состоянии либо с помощью насосов, либо за счет обратной закачки газа в скважину, так называемого „газового подъема“. То, что выходит на поверхность – это горячая сырая нефть, иногда с сопутствующим природным газом.
Но на выходе из скважины сырая нефть имеет очень ограниченную сферу применения. Фактически вся сырая нефть проходит перегонку, с тем, чтобы получить из нее такие продукты как бензин, авиационное топливо, мазут и промышленные виды топлива. На заре нефтяной отрасли, переработка производилась примитивным перегонным аппаратом, в котором нефть доводилась до кипения, и, затем, конденсировались различные продукты, в зависимости от температуры. Для этого требовалось не намного больше умения, чем для изготовления самогона, поэтому в нефтяную отрасль в девятнадцатом веке пришли производители виски. Сейчас, как правило, нефтепереработка представляет собой крупный, сложный, высокотехнологичный и дорогостоящий производственный комплекс.
Сырая нефть – это смесь нефтяного конденсата и газов в различных сочетаниях. Каждя составляющая имеет свою ценность, но только при выходе из переработки. Поэтому, первой стадией переработки нефти является разделение на составляющие части. Это достигается путем высокотемпературной перегонки – нагрева. Различные составляющие испаряются при разных температурах, и, затем, их можно сконденсировать в раздельные „чистые“ потоки. Некоторые из этих продуктов уже готовы для продажи. Другие подвергаются дальнейшей переработке, чтобы получить более дорогостоящие продукты. При простой перегонке процессы, как правило, сводятся к удалению инородных частиц и внесению незначительных изменений в химические свойства. В перерабатывающих комплексах производится более сложное преобразование на молекулярном уровне путем химических реакций; этот процесс называется „крекинг“ или „конверсия“. Результатом является увеличение выхода более качественных продуктов, таких как бензин, и снижение выхода таких дешевых продуктов, как мазут и асфальт.
Сырая нефть и продукты переработки в настоящее время транспортируются танкерами, трубопроводами, баржами и автоцистернами. В Европе нефть официально измеряют метрическими тоннами, а в Японии – килолитрами. Но в США и Канаде, и у нефтяников всего мира, основной единицей измерения остается „баррель“, хотя вряд ли сейчас найдется нефтяник, который видел старую нефтяную бочку где‑нибудь, кроме музея. Когда впервые началась добыча нефти в западной Пенсильвании в шестидесятые годы девятнадцатого столетия, отчаявшиеся нефтяники обшаривали фермы, конюшни, подвалы, склады и свалки в поисках хоть каких‑нибудь бочек: из‑под патоки, пива, виски, сидра, скипидара, соли, рыбы – что попадется. Но когда бондари начали изготавливать бочки специально для нефти, появился один стандартный размер, и этот размер остался нормой до сегодняшнего дня. Это 42 галлона. Цифра была позаимствована из Англии, когда указом короля Эдварда Четвертого в 1482 году был установлен стандартный размер 42 галлона для бочек сельди, с тем, чтобы положить конец надувательству и „рыбацким уловкам“ при укладке рыбы. В то время промысел селедки был крупнейшим бизнесом в Северном море. К 1866 году, семь лет спустя после того, как полковник Дрейк пробурил первую скважину, нефтедобытчики в Пенсильвании утвердили бочку в 42 галлона в качестве своего стандарта, в отличие от винной бочки в 31 с половиной галлона или лондонской бочки с элем в 32 галлона, лондонской пивной бочки в 36 галлонов. Так или иначе, это дошло и до сегодняшних дней. Бочка в 42 галлона до сих пор используется как стандартная мера, пусть и не как физическая тара, в самом крупном бизнесе в Северном море, которым уже стала не селедка, а нефть.
ХРОНОЛОГИЯ
1853 Джордж Биссел появляется на нефтяных источниках в западной Пенсильвании
1859 Полковник Дрейк бурит первую скважину в Тайтусвиле
1861 – 65 Гражданская война в США
1870 Джон Рокфеллер основывает „Стандард ойл кампани“
1872 „Саус импрувмент кампани“ развязывает войну в Нефтяном регионе. Рокфеллер приводит в действие „Наш план“
1873 Начата добыча нефти в Баку. Семья Нобелей открывает бизнес в России.
1882 Томас Эдисон демонстрирует использования электричества. Основан „Стандард ойл траст“
1885 Ротшильды начинают заниматься нефтяным бизнесом в России. „Ройял Датч“ находит нефть на Суматре
1892 Маркус Самюель отправляет „Мюрекс“ в рейс по Суэцкому каналу. Основание „Шелл“
1896 Генри Форд собирает свой первый автомобиль
1901 Уильям Нокс Д'Арси получает концессию в Персии. Фонтан нефти на Спиндлтопе в Техасе, основание компаний „Сан“, „Тексако“, „Галф“
1902 – 04 Публикация книги Айды Тарбел „История „Стандард ойл кампани“ в журнале „Макклюрс“
1903 Первый полет братьев Райт
1904 – 05 Поражение России в войне с Японией
1905 Революция 1905 года в России, нефтяные месторождения Баку в огне. В Оклахоме открыт „Гленн Пул“
1907 Детердинга проводит слияние „Шелл“ и „Ройял Датч“. Открыта первая автозаправочная станция в Сен‑Луи.
1908 Открытие нефти в Персии приводит к созданию „Англо‑персидской компании“ (Позднее переименованной в „Бритиш Петролеум“)
1910 В Мексике открыта „Золотая дорога“
1911 Агадирский кризис. Черчилля назначают Первым лордом Адмиралтейства. Верховный суд США выносит решение о роспуске „Стандард ойл траст“
1913 Запатентован процесс крекинга в нефтепереработке
1914 Правительство Великобритании приобретает 51 процент „Англо‑персидской нефтяной компании“
1914 – 18 Первая мировая война и боевая техника на полях сражений
1917 Большевистская революция в России
1922 – 28 Переговоры по „Турецкой нефтяной компании“ с Ираком, которые привели к Соглашению о „Красной линии“
1922 Открытие Лос Барросо в Венесуэлле
1924 Разразился скандал вокруг „Типот Дом“
1928 Излишек мировой нефти – тема встречи в Ахнакарри Касл и соглашения „статус‑кво“. Французский закон о нефти
1929 Обвал рынка ценных бумаг предвещает Великую Депрессию
1930 Открытие „Папаши Джойнер“ в восточном Техасе
1931 Япония вторгается в Манчжурию
1932 Открытие нефти в Бахрейне
1932 – 33 Шах Реза Пехлеви аннулирует концессию „Англо‑иранской компании“. „Англо‑иранская компания“ вновь получает ее
1933 Франклин Рузвельт избран президентом США. Адольф Гитлер становится канцлером Германии. „Стандард оф Калифорния“ получает концессию в Саудовской Аравии
1934 „Галф“ и „Англо‑иранская компания“ получают совместную концессию в Кувейте
1935 Муссолини оккупирует Эфиопию, Лига Наций не смогла установить нефтяное эмбарго
1936 Гитлер ремилитаризирует Рейнскую область и начинает готовиться к войне, включая масштабную программу по разработке синтетического топлива
1937 Япония развязывает войну в Китае
1938 Открыты нефтяные месторождения в Куйвейте и Саудовской Аравии. Мексика национализирует иностранные нефтяные компании
1939 Вторжение Германии в Польшу начинается Вторая мировая война
1940 Германия захватывает Западную Европу. США вводят ограничения на экспорт нефти в Японию
1941 Германия вторгается в Советский Союз (июнь). Захват Японией Индокитая приводит к эмбарго на поставки нефти в Японию со стороны США, Великобритании и Нидерландов (июль)Япония нападает на Перл‑Харбор (декабрь)
1942 Сражение при Мидуэе (июль). Сражение при Эль‑Аламейне (9 сентябрь). Сталинградская битва (началась в ноябре)
1943 Первое соглашение „пятьдесят на пятьдесят“ в Венесуэле. Союзники выигрывают битву за Атлантику
1944 Высадка в Нормандии (июнь). Паттону не хватило горючего (август). – Сражение в проливе Лейте, Филиппины (октябрь)
1945 Вторая мировая война заканчивается поражением Германии и Японии
1947 План Маршалла для Западной Европы. Начинается строительство Трансаравийского трубопровода для нефти из Саудовской Аравии
1948 „Стандард оф Нью Джерси“ (Экссон) и „Сокони‑вакуум“ (Мобил) присоединяются к „Стандард оф Калифорния“ (Шеврон) и „Тексако“ в рамках „Арамко“. Израиль провозглашает независимость
1948 – 49 Концессия в Нейтральной зоне „Аминойл“ и Дж. П.Гетти
1950 Соглашение „пятьдесят на пятьдесят“ между „Арамко“ и Саудовской Аравией
1951 Мосаддык национализирует „Англоиранскую“ компанию в Иране (первый послевоенный нефтяной кризис“. Открыт „Тернпайк“ в Нью‑Джерси
1951 – 53 Корейская война
1952 Открывается первый мотель „Холидей Инн“
1953 Падение Мосаддыка, возвращение шаха.
1954 Создан „Иранский консорциум“ Начинается кампания по экспорту советской нефти. Открывается первый „Макдональдс“ в пригороде Чикаго
1956 Суэцкий кризис (второй послевоенный кризис). Найдена нефть в Алжире и Нигерии
1957 Создано Европейское экономическое сообщество. Энрико Маттеи заключает сделку с шахом. Японская „Арабская нефтяная компания“, получает концессию на шельфе Нейтральной зоны
1958 Революция в Ираке
1959 Эйзенхауэр устанавливает квоты на импорт. Арабский нефтяной конгресс в Каире. В Нидерландах открыто газовое месторождение Гронинген. В Ливии открыто месторождение Зельтен
1960 В Багдаде основана ОПЕК
1961 Попытка Ирака поглотить Кувейт сорвана британским военным контингентом
1965 Разразилась война во Вьетнаме
1967 Шестидневная война, Суэцкий канал закрыт (третий послевоенный кризис)
1968 Открытие нефтяного месторождения на Аляске, Норт‑Слоуп. Баасисты захватывают власть в Ираке
1969 Каддафи приходит к власти в Ливии. В Северном море найдена нефть. Утечка нефти в Сайта– Барбаре
1970 Ливия „выдавливает“ нефтяные компании. День Земли
1971 Тегеранское соглашение. Торжества в Персеполисе. Великобритания выводит войска из Персидского залива
1972 Исследование, проведенное Римским клубом
1973 Война Йом‑Киппур; арабское нефтяное эмбарго (четвертый послевоенный кризис). Цена на нефть поднимается с 2,9 доллара (сентябрь) до 1 1,65 доллара (декабрь). Принято решение об Аляскинском трубопроводе. Углубляется Уотергейтский скандал
1974 Снято арабское эмбарго. Никсон подает в отставку. Основано Международное энергетическое агентство.
1975 В США приняты нормы токсичности автомобильного топлива. Начало добычи нефти на шельфе Северного моря. Южный Вьетнам отходит к коммунистам. Прекращены концессии в Саудовской Аравии, Кувейте и Венесуэле
1977 На рынок поступает нефть из месторождения Норт‑Слоуп, Аляска. Рост добычи нефти в Мексике. Визит Ан‑вара Садата в Израиль
1978 Антишахские выступления, забастовки нефтяников в Иране
1979 Шах удаляется в изгнание; власть переходит к аятолле Хомейни. Авария на атомной станции „Тримайл аи‑ленд“. Иран захватывает заложников в посольстве США
1979 – 81 Паника взвинчивает цены на нефть от 13 до 34 долларов за баррель (пятый послевоенный кризис)
1980 Ирак развязывает войну против Ирана
1982 Первые квоты ОПЕК
1983 ОПЕК снижает цены до 29 долларов за баррель. На Нью‑йоркской бирже начинается торговля фьючерсами на нефть
1985 Михаил Горбачев становится руководителем Советского Союза
1986 Падение цен на нефть. Чернобыльская авария в СССР
1988 Прекращение огня в ирано‑иракской войне
1989 Авария танкера „Экссон Вальдес“ у берегов Аляски. Падение Берлинской стены, крушение коммунистических режимов в Восточной Европе
1990 Вторжение Ирака в Кувейт. ООН вводит эмбарго на поставки в Ирак; многонациональные силы дислоцируются на Ближнем Востоке (шестой послевоенный кризис)
Назад Начало
Текст прислал Владимир Душевин. |